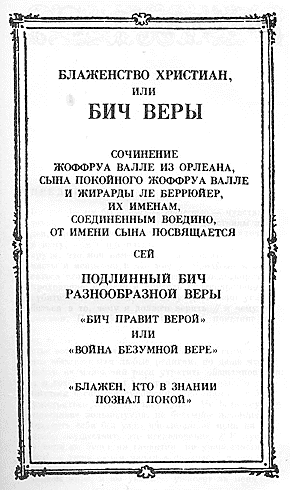БЛАЖЕНСТВО ХРИСТИАН
или
БИЧ ВЕРЫ
СОЧИНЕНИЕ ЖОФФРУА ВАЛЛЕ ИЗ ОРЛЕАНА,
СЫНА ПОКОЙНОГО ЖОФФРУА ВАЛЛЕ И ЖИРАРДЫ ЛЕ БЕРРЮЙЕР,
ИХ ИМЕНАМ, СОЕДИНЕННЫМ ВОЕДИНО,
ОТ ИМЕНИ СЫНА ПОСВЯЩАЕТСЯ
СЕЙ
ПОДЛИННЫЙ БИЧ
РАЗНООБРАЗНОЙ ВЕРЫ
"БИЧ ПРАВИТ ВЕРОЙ"
ИЛИ "ВОЙНА БЕЗУМНОЙ ВЕРЕ"
"БЛАЖЕН, КТО В ЗНАНИИ ПОЗНАЛ ПОКОЙ"
П Р Е Д И С Л О В И Е
Каким бы ни было высшее существо — чувствительным или нечувствительным к действиям людей, наказующим их поведение или безразличным к нему, — я свидетельствую в самом начале сего труда, что мои намерения благожелательны, чисты и искренни и что мне не приходится опасаться его гнева. Не стремление удовлетворить преходящие страсти и вкусить кратковременное и губительное наслаждение побуждает меня углубиться в то, чему я должен верить // и чему не должен. Надо было бы проявить поистине тупую самонадеянность и весьма глупую слепоту, не только чтобы предпочесть это непрочное счастье возможности удовлетворить себя всем тем, что обещают нам любые религии, но даже чтобы пойти на малейший риск утратить обещанное ими; и я готов принести в жертву свою жизнь и столкнуться с самыми суровыми лишениями, чтобы удостоиться того, что нам сулят. Не безрассудное тщеславие вольнодумца, не безумное желание ощутить себя без узды вдохновляют меня на то, чтобы осуществить это исследование. // И пусть у меня не будет ни гарантии, ни уверенности — нет! — лишь самая малая вероятность иного счастья, чем то, которым мы можем наслаждаться в этом мире, и вы увидите, ужасает ли меня смерть, если речь идет о том, чтобы достичь этого // счастья: пожалуй, дороговато оплачивать несколько мгновений наслаждения, покупая его ценой утраты столь великого блага. Я доверчив и не упрям, я был бы безгранично признателен тому, кто избавил бы меня от неуверенности, в которую меня ввергли размышления, и я досадую, что сладостные иллюзии, которыми я // прежде тешил себя в своем невежестве, оказались сомнительными, а небо и блаженная вечность исчезли для меня. И хотя я с сожалением отказался от столь приятного заблуждения, я все еще ищу после этого пробуждения воображаемое благо, которым наслаждался в мечтах: один весьма злосчастный день лишил меня множества преимуществ. Я более не первое существо во Вселенной, сын и брат бога и предмет вечной славы. Ужасающее падение! Мучительное лишение! Но хотя я бесконечно сожалею, // что столь выгодное заблуждение ложно, я не могу сожалеть, что распознал его; мне жаль истины моих иллюзий, но не самой иллюзии — я не могу вкушать ложное благо. Я презираю воображаемое благо и хочу быть счастливым благодаря истине, а не обману. Каким бы выгодным ни было мое заблуждение, коль скоро оно оказалось ошибкой, выгодно отказаться от него. К тому же и не от меня зависит, чтобы я не знал того, что знаю, и не видел того, что вижу; убеждение в моей // выгоде может поколебать знание, которым я обладаю, моя воля не всегда повелевает моими суждениями, и я вижу, вопреки им, свет, который режет мне глаза. Как бы я ни был несчастен, утратив свои заблуждения, приятные видения безумца, мне не следует желать обрести счастье этим путем в ущерб своему разуму, ибо выгода, проистекающая из сознания своего несчастья, уже сама по себе превосходит выгоду быть счастливым вследствие неведения и обмана. Чего бы, таким образом, это мне ни стоило, что бы // я ни утратил, как бы сладостны ни были мои ложные представления прежних времен, каких бы привязанностей я ни испытывал по сию пору, я не могу помешать себе в еще большей мере пользоваться преимуществом распознания обмана. Я не был счастлив, поскольку то, что, как казалось, должно было меня делать таковым, не существовало, и я был поистине несчастлив, заблуждаясь! Итак, я торжественно заявляю, что только желание познать истину заставило меня взять в руки перо *. Я счел, что, если бы я родился в Турции, я был бы магометанином; если бы я родился в Германии, я был бы лютеранином; // если бы я родился в Англии, я был бы кальвинистом; и то, что я католик, объясняется единственно моим рождением во Франции**; приняв в этой связи все возможные предосторожности, я теперь выскажу все, что у меня на уме.
* Эта фраза воспроизведена в книге П. Ф. Арпе «Летние досуги» (P. F. Arpi, Feriae aestivales. Liber singularis. HamLurgi, 1726, p. 126).
** Рассуждения о разных религиях содержат намек на позднее происхождение рукописи: говорить о кальвинизме как о господствующей в Англии религии можно было только после буржуазной революции XVII в.
Я не избирал себе религию; это — религия государства, страны, государя, моих родителей, а не моя религия*.
* Аналогичные рассуждения о власти государства над религиозным культом см. в книге Т. Гоббс. Избранные произведения в двух томах. М., 1964, т. 1, стр. 394—395; т. 2, стр. 90, 303, 374—375. Дальнейшие ссылки на сочинения Гоббса даны по этому изданию с указанием тома и страницы.
Один лишь случай дал мне веру, а все уверяют меня, что, если я ошибся, если я сделал неудачный шаг, я рискую обречь себя на вечную муку. Было бы, // таким образом, неблагоразумным с моей стороны довериться в столь значительном деле тому обстоятельству, что я оказался католиком лишь потому, что я француз и не исповедую какую-либо другую веру только оттого, что не был в ней воспитан. С чем бы ни была связана власть государя, — с местоположением ли его владений или с его достоянием, нужно, чтобы рассуждение, пренебрегая неразумной властью государя, влиянием воспитания и отечества, помогло мне сделать выбор, от которого зависит все мое счастье, // и решить, действительно ли религия, в которой я родился, — наилучшая и истинная. Я хочу, чтобы она стала моей по моему выбору, а не в результате рождения; я желаю быть обязанным ей на разумном основании, а не по прихоти судьбы; я опираюсь, следовательно, на свой разум, чтобы подвигаться к истине, на которую все претендуют. Как бы ни возбраняла мне католическая вера следовать ложному свету, она не может, однако, полностью воспрепятствовать тому, чтобы я воспользовался им; она даже говорит мне, что ее таинства не обращены против разума, но они вне его. // Паскаль * объясняет мне этот принцип, говоря, что позволительно подвергнуть исследованию авторитет законодателя, но, коль скоро он подтвержден, необходимо слепо верить всему, что он говорит, какими бы непостижимыми ни были его слова.
* Блез Паскаль – французский математик, физик и религиозный мыслитель. Плоды его религиозных размышлений были посмертно изданы под названием «Pensees» («Мысли») в 1670 г. (русск. пер. Б. Паскаль. Мысли. М., 1905).
Каким большим счастьем и важным достижением было бы, если бы религия не обходилась без разума и могла с ним согласоваться! Не только католическая, но и чуть ли не каждая религия доказывает мне, со своей стороны, что все // другие религии неразумны, а разумна лишь она одна; каждая говорит мне, что, если я отделаюсь от впечатлений детства и предрассудков, чтобы руководствоваться светом истинного рассуждения, я непременно приду к ней. И тогда я отхожу в сторону: я предаю забвению все, что выучил, я следую за всеми, чтобы избрать какую-нибудь одну привязанность, и становлюсь судьей всех религий. Иудейская религия, языческая, христианская, магометанская предоставляют мне на выбор свои чудеса, // своих мучеников, свои традиции, свою древность, возвышенность, мораль и свой культ: каждая стремится соблазнить меня грядущим блаженством, какое приносит только она; каждая пугает меня своим адом, которого можно избежать не иначе, как бросившись в ее объятия. Я все исследую с необыкновенной тщательностью. Сколько разных религий предстает перед моим взором! Я вижу уже умершие, за которыми пришли те, что царят сегодня, — все они имели свое время [расцвета], свой возраст, свою жизнь и перемены [судьбы], как и нынешние религии, // которые пройдут в свою очередь. Ни одна из них, тиранически властвующая над действиями и мнениями людей, как и над всем прочим, не избежит свойственных ее судьбе превратностей. Сколько глупости, низостей, заблуждений, наконец, безумия проявили сектанты, и даже те, кого поддерживали знаменитые защитники! Растения, животные, люди, пороки, страсти — все было обожествлено*.
* О суевериях, обоготворении предметов и явлений см.: Гоббс, 1, 270—271; 2, 140.
Поистине выбор, который я собираюсь сделать между столькими различными партиями, весьма труден, и боязнь ошибиться ввергает меня // в замешательство. Я вижу в каждой религии хорошее и дурное, ложное и правдоподобное, низкое и возвышенное, суеверие и злоупотребление — короче, все, что повсюду свойственно человеку; все в равной мере способно поддерживать себя и разрушать; любая человеческая традиция может подвергнуться ложному толкованию; все, что связано со взаимоотношениями людей, может быть испорчено; все религии спешат использовать это обстоятельство; и я вижу только басни и вымысел в той древности, которой они похваляются; их чудеса лживы и вымышлены; их мученики увлечены // лишь видимостью истины; их нравоучения полезны и необходимы обществу, но самый совершенный их культ примитивен, полон суеверий, идолопоклонства и оскорбителен для божества! Все они, наконец, вынуждены прибегать к помощи слепой веры, чтобы доказать то, что всем им в равной мере желательно; их великие люди — это неизменно люди, самые значительные из которых слишком мелки, чтобы подняться до высочайших достижений разума, — они не восходят до него; их наивысшее усилие — это слабость, и их самый сильный свет — это глубокая тьма. // Наконец, я так хорошо знаю, сколь незначителен человек и его возможности, что никогда не преклоню колен перед каким бы то ни было гением, доходя до отказа от своего разума в пользу его авторитета, вплоть до того, чтобы позволить себя убедить его примером или благодаря его влиянию. Что же мне дало это тягостное исследование всех религий, если не невозможность выбора? Из-за охватившего меня возмущения несправедливостью и ложностью всех их я не желаю ни одной. Я хотел бы, чтобы было разрешено оставаться нейтральным и пребывать в нерешительности, // в которую меня ввергло замешательство, [мешающее] определить мое отношение к стольким равноценным исповеданиям. Но все религии дружно вопиют, что я гублю себя, что я так же рискую, не решаясь ни на какой выбор, как и выбирая неудачно, и что, наконец, решение не принимать никакого решения — самое дурное. Повсюду заблуждение, со всех сторон опасность! О человек, как ты несчастлив с твоим разумом! Однако сделаем эти жалкие потуги и посмотрим повнимательнее, способен ли вооруженный разумом человек обнаружить истину, // измерим силы этого разума — единственного оружия, которое может мне помочь, и попытаемся оправдать мою нерешительность и боязнь отважиться на что-либо. Рабочий, прежде чем начать свой труд, осматривает инструмент, которым должен пользоваться.
То, что мы называем умом, разумом, мыслью, есть нечто столь непостижимое и неясное, что я не думаю, чтобы нашелся человек, безумный в такой степени, чтобы с уверенностью говорить об этом, как бы ни были глубоки и зрелы размышления его разума над самим собой. // Он никогда не ведает самого себя и не может познать себя. Если послушать эстетов, разум крайне подвержен заблуждениям, ибо он всегда подвигается неверными шагами, позволяет застигать себя врасплох при малейшем проблеске света, наконец, его легко обманывают несложные словесные хитрости. Какой-нибудь жест, изменение тона, взгляд заставляют его принимать ложь за истину. Откуда мне знать, не есть ли это слабое разумение и в своем наивысшем величии — ребячество, лепет, заикание и по сравнению с другим, высшим разумом примерно то же, что мы // считаем инстинктом в сравнении с нашим разумом: может быть, оно всего лишь греза или сон, а смерть — пробуждение? Мы не знаем, способен ли разум на какое-нибудь достоверное познание, но опыт учит нас ежедневно, что одно весьма достоверное суждение вызывает у нас другое, которое, как мы полагали, невозможно отбросить. Часто я бывал в чем-либо столь же верно убежден, как в том, что два и два — четыре, и часто я обнаруживал ошибочность этой уверенности // на многократно повторенном опыте. Так не должен ли мой разум колебаться, извлекать из этих колебаний уроки и сомневаться в самом себе? Можно ли узнать с наивысшей степенью достоверности, когда лжец не лжет? Следует ли верить ему, когда он говорит правду? Как бы ни был я тверд в своем мнении, не должен ли я думать, что тот, кто обманывал меня уже так часто, может опять обмануть меня и в этом случае? Любая уверенность, которая, по-видимому, не дает никакого основания для сомнений, при всей ее очевидности часто оставляла меня в заблуждении. // Действительно, разум способен на некоторое достоверное знание, но неуверенность, в которой мы пребываем относительно того, когда это возможно, должна постоянно оставлять нас в состоянии неуверенности по поводу того, что мы можем знать достоверно, и в то же время не должна нам помешать заподозрить, что мы всегда рассуждаем неверно: наши ошибки, наши блуждания впотьмах, наши иллюзии бесконечно превосходят число тех вещей, которые мы считаем очевидными, и это должно лишить нас доверия к кажущимся истинам. Я никогда не уверен ни в чем, ибо у меня нет возможности // не ошибаться; следовательно, я и не должен быть в чем-либо уверен. Лишь случайно мы обнаруживаем истину: все скрыто от нас плотной завесой, перед которой наш слабый разум может блуждать, не имея силы проникнуть сквозь нее, и мы никогда ничего не познаем, если бы не неурядицы, которые время от времени наставляют нас на истинный путь. Этот довод может простираться вплоть до разрушения достоверности математики. Как, возразят мне, один и один не составляют два? Можно ли поколебать эту истину? Я отважусь // ответить, что не знаю этого, используя в данном случае оружие, которое мне дала христианская религия, — таинство троичности бога. Я вам скажу, что один и один — шесть, так же как три составляют один, а один — три, — истина, которая, согласно католикам, отнюдь не противоречит разуму, но превосходит его и подтверждает мои доводы.
Этого рассуждения достаточно, чтобы разрушить всякую достоверность, ибо мы считаем, что некий другой, высший и лучший, чем наш, разум как будто приходит к заключениям, отличным от наших, // и открывает истину, которая, хотя и кажется противоречащей разуму, попросту его превосходит.
Этот пирронизм* может показаться чрезмерным, и я знаю, с каким аргументом выступят против меня; но я признаю, что не найдется столь правильного рассуждения, каким бы оно ни было, выводы из которого, если угодно, не вели бы нас к несообразностям, противоречиям и нелепостям, что еще более расшатывает всякую достоверность.
* Пирронизм — скептицизм, получивший название от имени своего основателя, древнегреческого философа-скептика Пиррона из Элиды (365—275 до н. э.).
Это еще раз доказывает, сколь склонен разум к различным оценкам, // как он слаб и хрупок, как легко он может переходить от истины к заблуждению, держать нос по ветру и колебаться при самом пустяковом выборе. Я знаю, до какой крайности захотят довести меня в том мнении, которое я отстаиваю, вплоть до неуверенности, до сомнения в том, сомневаюсь ли я, вплоть до неведения относительно того, думаю ли я и существую ли *, но, какие бы нелепые следствия не было возможно вывести из какого-либо истинного рассуждения, я отказываюсь от них, дабы с еще большим // упорством следовать рассуждению, какую бы бурю мне ни готовили.
* Здесь автор, по-видимому, говорит о философии Декарта. Ср. Р. Декарт. Избр. произв. М., 1950, стр. 282—283.
Все эти нелепости не мешают мне привязаться к тому, к чему наибольшая вероятность, кажется, меня привлекает. Эти неизбежные противоречия, которые встречаются во всем, еще лучше доказывают мне гибкость разума и то, что все недостоверно, вплоть до самой моей неуверенности. Однако для разума, по-видимому, в какой-то мере достоверно то, что он верит в существование бога, но он не обладает уверенностью в том, что бог, в которого он верит, существует на самом деле. Разум теряется // в том, что вне его. Он останавливается самое большее после второго шага, который, как ему мнится, он совершает, и не видит более ничего, как только выходит за свои собственные пределы. Но если я признаю наличие в разуме одного, двух или трех достоверных положений, лишенных всяких следствий, связь которых всегда столь обманчива, столь вынужденна, столь слаба, зыбка, что она ускользает от нас, то какой ущерб это может нанести моему чувству, будто существует нечто достоверное, и — приходится сделать вывод — почти все достоверно? Ведь исходя из одного достоверного положения или предположения, // люди в один миг сооружают колоссов, воздвигнутых из заблуждений, лишь потому, что разуму бывает позволено обращаться то в ту, то в другую сторону. Часто встречаются рассуждения, которые убеждают нас и, так сказать, принуждают нас к согласию и возбраняют нам всякое возражение, но противоречат нашему настроению или какому-либо чувству, которое мы не можем сами себе объяснить и которое не только не ослабевает от этого давления, но, напротив, торжествует в полную меру своих сил над кажущейся достоверностью, // ослепляющей меня.
Позволим же себе допустить существование одного или двух родов достоверности без каких бы то ни было следствий, поскольку не бывает ни одного из них, который бы не вел к какому-нибудь противоречию. Когда я увижу некую истину в сочетании и связи с ложью, я возьму только истинное и отвергну сопровождающее его ложное. Если существует достоверное знание, то его дают лишь чувства*, однако их свидетельство тоже может стать жертвой обмана, и оно ведет лишь к тому, что для разума оказывается достоверным // только то, что происходит в нем самом и благодаря его рассуждению о самом себе. Скажем, мое зрение обнаруживает какой-то предмет, но предмет этот, который кажется мне круглым, не обязательно таков; я вижу портрет Цезаря, но я не знал Цезаря и не знаю, похоже ли на него изображение. Следовательно, только восприятие вещей достоверно, а не сами вещи; нам известно внутреннее впечатление, которое вещи в нас вызывают или производят на нас, но не потому, что они существуют сами по себе.
* Ср. Гоббс, 1, 185; 2, 50.
К тому же чувства // открывают разуму лишь внешний вид материальных объектов, о которых разум, по-видимому, может судить с большей достоверностью, чем о предметах духовных, превосходящих его и находящихся за пределами его возможностей. Тот же опыт, который свидетельствует о ненадежности разума, в неменьшей мере касается и чувств, — это обманщики, которые постоянно обманывают нас, и, если иногда они говорят нам правду, как мы можем это распознать? Напрасно чувства советуются по поводу какого-либо предмета: // зрение хочет дать свои представления, слух — свои, обоняние — свои, осязание — свои. Напрасно они накапливают вероятности, чтобы достичь достоверности, [стремясь] видеть, слышать, обонять, осязать, дабы вынести безошибочное решение; напрасно они выпрашивают друг у друга помощь, чтобы увериться в самих себе; каждое из них в отдельности ошибочно, а все вместе — совокупность несведущих судей, которые способны заблуждаться, ибо, если каждый из них в отдельности подвержен заблуждениям, почему все // они в совокупности не стали бы ошибаться? И как знать, не проистекает ли тьма, в которой мы пребываем,
от того, что наши чувства отнюдь не совершенны? Мы убеждаемся каждый день, что одни животные обладают чувствами, отличными от чувств других по отношению либо к цвету, либо к осязанию, а это может изменить воздействие, которое какой-либо предмет оказывает на воображение, и сделать его отличным от воздействия, производимого им на нас. Есть и такие // [животные], которые владеют более тонкими чувствами, чем мы. Разве не различаем мы среди самих людей разных степеней ума, благородства, добросердечия или утонченности чувств; быть может, нам естественно недостает одного или нескольких чувств, как зрения кроту, недостаток же этого чувства стоит нам тысяч просчетов, мешает постичь истину. Скольких ошибок в своих рассуждениях избежал бы слепец, сколь часто заставляет его заблуждаться слабость зрения, так что он не в силах догадаться, чего ему недостает? Ни своих заблуждений, ни их причины он не чувствует, не чувствует отсутствия вещи, которая ему так // необходима. И его разум, который побуждает его судить обо всем, лишь смутно обнаруживает, что он лишен какой-то опоры, и это делает истину почти недостижимой для него; он привычно говорит о дневном свете, о солнце, о красках, о ночи, не проникая в значение этих непонятных слов, которые нерадивый и слабый разум отказывается постичь, не пытается более постичь либо из-за того, что не раз притуплял свои способности в подобных попытках, либо из-за привычки никогда не размышлять // над этими вещами. Примерно так же поступаем и мы в отношении таких, не менее темных для нас терминов, как «случай», «симпатия», и других, которые мы каждый день произносим, познавая их ничуть не лучше. Мы поистине слепорожденные.
Однако я не отказываюсь признать наши чувства единственными наставниками всех наших достоверных суждений и познаний. Ничто не проникает в разум, минуя их посредничество, и мы не привязаны ни к какой достоверности так сильно, // как к той, о которой они нам свидетельствуют. Однако остережемся переступить пределы того, в чем они нас убеждают. Если математические науки как будто имеют больше достоверности, чем другие, то это происходит оттого, что они обосновываются не чем иным, как чувствами, занятыми постижением внешней стороны материи, которую они видят и внимательно осязают, что определяет и делает достоверным суждение разума, которое, по-видимому, с этим сопоставляется, этим регулируется и укрепляется. // При всей ненадежности и суетности нашего разума и неверности наших чувств разуму встречается еще тысяча препятствий, которые скрывают истину: страсти, темперамент, времена года, климат, солнце, дождь, здоровье, болезнь определяют его суждения, он — раб всего. То любовь руководит его решениями, то летняя жара заставляет его склоняться к исполненному непримиримости мнению, то веселое солнце располагает его к мягкосердечному заключению; разум видит вещи в здоровом состоянии иначе, // чем представляются ему они при болезни. Наконец, случай, несмотря на самую большую осторожность, всегда оставлял за собой право участвовать в решениях разума, как, впрочем, и в остальных явлениях. Разум подобен ребенку, которого утешает игрушка, которого как угодно обманывают, которому что угодно внушают, которого огорчает и веселит любая безделица. Страх, воспитание и пример направляют разум в любую сторону, он — постоянная жертва сердца и желаний. Вожделение // и то, как видно, судит самостоятельно и независимо. Нужно ли удивляться, что при стольких слабостях разум считает все науки столь ненадежными и не обнаруживает в них ничего, кроме неясностей и заблуждений. Какие только противоречия, какой разнобой противостоящих друг другу и взаимно уничтожающих друг друга взглядов не содержатся в законах, касаются ли они познания природы или божества, нравственности или медицины? Существует ли столь непогрешимая аксиома, // которая не сталкивается с другой, столь же непогрешимой? Все сталкивается [друг с другом], все противоречит друг другу; все взаимно поддерживает себя, все взаимно разрушается, истина и заблуждение — повсюду, все можно равным образом принять или отвергнуть. Какой хаос! Какое смешение! Какой беспорядок! Все достоверно, всякое чувство связано с различными сторонами постижимой вероятности; возобновляющийся опыт и повторяющийся результат, причина которого неизвестна, — вот наиболее веский аргумент разума и единственная // наука, то есть всего лишь воспроизведение и повторное переживание события. Именно отсюда проистекает достоверность математики, в которой чувства обретают силу благодаря доказательству, поражающему и убеждающему их. Таким образом, наша наука — это только наука памяти. Обычно наш разум ничего не знает из всего, что мы познаем; мы заучиваем нечто наизусть, а не постигаем благодаря суждению; мы знаем, что нам сказали о какой-либо вещи, а не то, что она есть. Нужно быть вооруженным всеми // науками, чтобы быть ученым. Цель, которую ученые могут достичь в своих исследованиях, — это ученое невежество, а единственная польза — признание их бесполезности и напрасно затраченных усилий.
Я полагаю, что достаточно рассмотрел ненадежность и неточность инструмента, которым хотели мне помочь, чтобы познать невозможность достичь достоверности.
Но если разум, который является первым основанием всякого познания, оказывается недостоверным, что же // достоверно? Если правило истинного оказывается ложным и искаженным, как можно познавать? Если разум слеп, что может он увидеть? Не разрушают ли эти достаточно охарактеризованные потемки всякую уверенность? Не опрокидывают ли любые взгляды? Не ослабляют ли всякую веру? Не искореняют ли любые религии? И не ввергают ли нас, наконец, в состояние всеобщего недоумения, в явное сомнение и глубокую неуверенность? *
* Одним из важнейших принципов философии Пиррона (см примечание 6 к стр. 34) было воздержание от суждения.
Какое бы усилие ни приложили, чтобы заставить меня обрести определенное мнение, я вправе // ответить: взгляните на правило, которое вы мне предложили, и признайте, что вы все приняли ложный свет за истинный. Я могу даже отказаться от спора по поводу слабости разума, поскольку он разрушает всякую надежность мнений, но, так как я не хочу ни в чем себя упрекать, я не премину воспользоваться этим плохим оружием, чтобы мне было легче победить Вас и принудить признаться, что непричастность к какому-либо мнению есть единственный разумный выбор. Я не // полагаю, будто нет ничего определенного в том, что я стану выдвигать, — это было бы противно моим правилам, я удовлетворяюсь простым правдоподобием, не имея никакой уверенности. Кто не умеет сомневаться, ничего не знает.
Со всей сдержанностью слепого разума я приступаю к разговору о боге, о первом принципе. Обсудим со вниманием эту общую идею, свойственную всем людям, идею вечного, духовного и бесконечного существа, благодаря которому все возникло и существует, — то, что мы именуем первым принципом*. Я // презираю упорство тех безрассудных людей, которые верят, что этого существа нет, — точно они могут располагать какими-либо доказательствами на этот счет.
* Эти рассуждения автора о боге перекликаются с положениями Гоббса (1, 58, 204, 263, 392-393, 397, 420-430, 497-498; 2, 368—376).
Я против тех, кто в него верит, и тех, кто в него не верит; и если одни не в состоянии надежно доказать, что оно существует, другие также не могут доказать, что его нет. Обычно именно страх порождает слабость одних и испорченность и безумие других, так же как и неразумное легковерие: все слепы в // своем выборе, которого они не должны были бы делать*.
* О возникновении религиозных представлений под влиянием страха перед неизвестными силами природы и использовании этого страха служителями культа см. Гоббс, 2, 57—58, 135, а также Б. Спиноза. Избранные произведения в двух томах. М., 1957. Т.II, стр. 8—9 (далее указываются том и страница этого издания).
Ничто не говорит нам, что бог не существует. Поэтому я устанавливаю принцип: есть немало вещей, которых мы не знаем. Бесконечное множество существ может существовать, хотя мы их совсем не знаем. Вот отчего атеист не прав, когда он упорствует в своем мнении. Мы можем также вообразить бесконечное множество существ, которых, однако, нет в действительности. Крайне неправомерно делать вывод о существовании какой-либо вещи на том основании, что она может быть, равно как и // утверждать, что вещь не существует из-за того, что мы не знаем, есть ли она. Вот отчего ошибаются и те, кто доказывает, что существует некое духовное существо, бог, не помышляя о том, смогут ли они постичь вещи, которых, быть может, нет [в действительности]. Вероятность всех вещей, далекая от того, чтобы быть западней для доверчивости тех и других, должна всех избавить от уверенности — этот [наш] слабый разум не в силах знать, в какой мере он может обладать достоверностью, не может судить, что возможно или невозможно, что должно // убедить его или наоборот и, наконец, что он [не в силах] познать различные степени возможности, которой он может располагать при этом; все должно ему казаться возможным, и, ни во что не веря, возможно верить в возможность всего.
Я верю, следовательно, что духовное существо может существовать, не веря, однако, что оно существует: я полагаю, что его может не быть, не думая, впрочем, что его и на самом деле нет. Истина может быть на стороне одного из двух взглядов, но случайно и не как таковая. Хотят, чтобы считалось преступлением, достойным наказания, неумение осветить // эти потемки, куда наш слабый разум не может проникнуть, чтобы ясно видеть в глубокой тьме, в которую нас ввергла природа. Но не значит ли это заставить нас стать на две головы выше, чем мы есть? Если это преступление, то это преступление того, кто нас создал, а не наше: мы не можем иметь больше силы, нежели имеем. Напротив, не означает ли покорность и почтительное повиновение этому духовному существу, если оно существует, [стремление] // не преступать черты, которой оно нас оградило, пребывание в неведении, в которое оно нас ввергло, а также сохранение порядка, в котором бог хочет нас удержать, и уважение ограниченных возможностей, которые он дал нашему разуму [?] Но не слишком ли тягостно нам самим неведение, из которого мы не можем выйти и которому покоряемся, не достаточно ли постыдно, достаточно горестно и без того, чтобы превратить его в преступление, наказание для нас за наши же несчастья, наше несовершенство, как если бы // мы сами явились их причиной? Должна ли быть преступлением, достойным самых жестоких пыток, эта покорная неуверенность, которую гордость разума выдерживает с таким трудом? Не является ли она сама подлинным мучением? Какая гордыня, не правда ли, скорее предпочесть разбить ограду, которой нас окружили, и определять свой выбор вкривь и вкось, руководствуясь лишь обманчивым разумом, нежели пребывать далее в неопределенности, на которую обрекли нас наша природная слепота и первое // существо! Если бы богу, этому духовному существу, всемогущему, бесконечному, повелевающему всей природой, такому, наконец, каким люди представляют его себе, если бы ему было важно, говорю я, чтобы наш разум узнал и познал, что он существует, разве он оставил бы нас в этом неведении, рассуждающими даже о самой идее, которую мы создаем о нем? Не следует ли сказать, исходя из своих собственных принципов: все, что важно для него, все, что он хочет, содержится в нем. О хрупкое человеческое понимание противоречивых, // сталкивающихся или обусловленных волеизъявлений!
Я не могу постичь предполагаемое бесконечное бытие, не признавая за ним в качестве совершенства возможность делать все, что он захочет; любые действия, явления — все в его воле; ничто не существует, кроме того, что он хочет. Государство, в котором я живу, моя вера — католическая, либо магометанская, либо безразличие к вере, либо даже атеизм — всего этого бог желает для меня, и всего этого я бы не знал, если бы он [сам] не пожелал их. Я готов почитать его, если он есть, преклоняясь перед ним даже в моем чувстве // неуверенности. Я жду, чтобы он дал мне познать себя, и соглашаюсь на это, и готов принести ему в жертву свою жизнь, если он даст мне силу совершить это. Я уважаю мысль, которую он мне посылает, и верование, которое он мне дает как свое, а не мое. Я и верю и не верю в него, я ничто без него, а он есть все во всем. Независимость существа есть его гибель, несмотря на все схоластические различения, моя воля, мое суждение и их действие // — все принадлежит богу, все зависит от него и делает только то, что делает и чего желает он сам. Он не позволяет ничего, но делает все и хочет всего; ничто из того, что я делаю, не совершается против его воли, потому что это он сам делает все. «Позволять» — это термин, который что-то недоговаривает, точно что-либо может совершиться помимо его самого. Его согласие, его разрешение, его одобрение, раскаяние, гнев, оскорбление, наказание, воздаяние — все это термины, созданные человеческой фантазией, приписывающей всяческие слабости божеству, которое // она постаралась сотворить и породить как воплощение совершенства, хотя сама часто не может сохранить последнее. Ибо разум вовсе не является частицей божества, скорее оно есть чрезмерно преувеличенный плод разума. В каждый момент выражения разума и его идеи противоречат друг другу и ниспровергают совершенство, которое он хочет сообщить божеству. Согласие божества есть воля, и его разрешение оказывается // одобрением, и, каково бы ни было [это] существо, оно одно и все в нем. Что такое воздаяние? Не вознаграждает ли божество самое себя? Что такое его покаяние? Его гнев? Его оскорбленное чувство? Его наказание — раскаяние в самом себе, и, значит, божество бывает в гневе против самого себя? Наказывает ли оно себя за то, что оно же сделало? Что должен означать этот смешной жаргон, которым мы вынуждены пользоваться, желая сообщить божеству наши страсти? Разве его гнев, его раскаяние, его обида не разрушили бы и не // уничтожили бы все грядущее? Как действует божество? Разве не человек вопреки самому себе создает эту модель по своему подобию, наделяет ее своими слабостями, своими недостатками? Человек не может мыслить бога иначе как человеком, в соответствии со своими идеями, законами, правилами, своей политикой, а это означает представлять себе бога весьма несовершенным образом: его воля и бесконечное могущество разрушают в нас независимость. Преступление, достоинство, наказание // и возмездие, гнев, обида, согласие и разрешение — все это выражения, которые могут лишь посягнуть на его бесконечное достоинство, они бесчестят представление, которое сам разум составил о боге. Можно ли сказать без всякого богохульства и без оскорбления бога: конечное желает объяснить бесконечное? Из всех слов ему подходит единственное слово «непостижимое». Едва мы выходим за пределы значения этого термина, мы наносим божеству оскорбление, причиняем ему вред, ибо все есть его воля, и воля [его] составляет все, что есть.
Какое зло совершаю я? Никакого? // Это он делает все. Пребываю ли я в бездействии, делаю ли выбор, он творец и того и другого. Какое противоречие преследует нас постоянно? Какая путаница рассуждений нас волнует? Едва мы собираемся предположить малейшую свободу или независимость в человеке, едва мы перестаем воздавать [божеству] все должное, когда речь идет о нас, в отличие от того, как мы поступаем во всех прочих случаях, — словом, как только мы наделяем себя чем-то, мы ничего не можем себе приписать без того, чтобы величайшее противоречие // не дало о себе знать, — мы обкрадываем бога: если мы обладаем чем-то таким, что ему не принадлежит, он не есть все, он не бог. Если бог ничто, ничего нет и в нас. Если ничего нет в нас, то мы не можем быть способны к чему-либо дурному; раз нет преступления, нет и наказания: бог желает всего, мерило справедливости — его воля, следовательно, все справедливо и совершенно, нет зла, нет преступления, нет греха, ничего, что бы противоречило установленному порядку. Все это — призраки, порожденные из ничего одним воображением мыслящих существ, почерпнутые из бесплодных прений, из поверхностных исследований, из бессодержательных россказней, // подобных мнениям некоторых католиков, желающих доказать, что бог не делает зла, хотя они признают его творцом всего. Евреи, магометане, кальвинисты или католики! Все ваши идеи, ваши взгляды, ваши верования — от бога, принадлежат богу, это он хочет, чтобы вы были такими, каковы вы есть, каждый в отдельности. Ваш культ, хотя он и отличен [от других], вдохновлен им, ибо все сущее исходит от него и не может ему не нравиться. Разве это не противоречит его совершенству, когда что-либо не нравится ему? И разве достойно бога // наказывать того, кто его оскорбляет, словно он не мог ему воспрепятствовать? Сама чистота ваших намерений должна вас предохранить от всякого риска: ваши различающиеся между собой способы поклонения суть все же способы поклонения; они оказывают честь божеству, если оно способно воспринять их; они не значат ничего, если божество к ним безразлично или если его не существует. Вы ведь мечтаете об истине, ее вы ищете, ей вы служите, ее вы любите под различными именами, в разной окраске. Наконец, если существует бесконечное, духовное, вечное и всемогущее существо, такое, каким его представляют себе все религии, то // свет здравого смысла, освобожденный от предубеждения и предрассудков, убеждает меня в силу самих своих принципов, что я ни на что не способен и могу без всякого риска пребывать в состоянии неопределенности, в котором природа,
к несчастью, произвела меня на свет. Но посмотрим, верно ли, что это духовное существо в самом деле существует. Ибо в соответствии с самими принципами христианина, несмотря на тьму, которая окутывает его таинства и как бы придает достоинство вере в них, не возбраняется разуму исследовать авторитет того, кто об этом возвещает.
Кто откроет нам, что существует первое // начало, духовное существо, которое безначально? Все религии и сами христиане внушают мне, что одна лишь природа его обнаруживает и что было бы простительно упорствовать в моей нерешительности, если бы невидимое не обнаруживалось видимым и если бы голос всех существ, которые воздействуют на наши чувства, не был бы достаточно понятным. Мне доставят удовольствие, если обратятся к помощи чувств, ибо если разум и способен прийти к чему-то достоверному, то только благодаря их помощи, и я рад приглашению в свидетели природы, которую // я уважаю и почитаю. Какое только великолепие не обнаруживает она передо мной! Каких только поразительных и необъяснимых красот не открывает она! Освободившись от всех внушенных в детстве предубеждений, вооруженный лишь своим разумом, я взираю на небо, солнце, звезды, море, землю, огонь; я восхищаюсь красотой этих предметов, я вижу, что они движутся, но я не знаю, кто приводит их в движение. Движутся ли они сами по себе или движимы кем-то другим? Возникли ли они сами собой или были кем-то созданы? Было ли у них начало, или они не имели его? Я определенно // вижу, что они бесконечно красивее, больше и долговечнее меня, что они даже обладают властью надо мной, и я завишу от них в значительной степени, что они огорчают и утешают меня, кормят и зачастую убивают, наконец, обходятся со мной, как с другими животными, моими собратьями. Я не могу знать, одушевлены они или нет, разумны или нет. Если я сужу об этом по тому, как они действуют на наши чувства, эти единственные посредники всех знаний, — я, который в сравнении с ними, обладающими несравненно более высокой степенью совершенства, не более чем атом, то мой разум, подавленный чрезмерным невежеством, // не позволяет мне никакого суждения о них, кроме выражения восхищения. Их красота, польза и помощь, которую они мне оказывают, зло, которое они мне могут причинить, наконец, моя зависимость от них побуждают меня превращать их
в моих богов. Ибо что представляет собой это восхищение прекрасным, полезным и возвышенным, воздействующим на мои чувства, если не естественное поклонение? Если бы я был постоянно лишен общения с людьми, сохранив простоту и чистоту разума, не предубежденного, // не испорченного предрассудками, я не знал бы, что такое бог, вечное существо: первоначало или отделенный от материи дух; но я счел бы, как уже и начал думать, что я ничто по сравнению с бесконечностью вещей в мире, и, заметив красоту, величие и совершенство других предметов, которые воздействуют на мои чувства — (а я должен был бы считаться исключительно с ними), я был бы вынужден восхищаться ими, и это восхищение, несомненно, было бы естественным, справедливым и разумным почитанием, которое возвеличило бы их до обожествления, хотя я и не чувствовал бы // и не знал бы, что такое бог; эти предметы тем более способны стать объектом почитания, поскольку они неизвестны и непостижимы. Их непостижимость дает мне возможность приписывать им все совершенства, какие мой разум может вообразить: бесконечность, вечность и всемогущество, хотя бы я и видел их величие ограниченным. Знаю ли я, что они существуют? Не представляют ли они собой лишь то, что, кажется моим глазам? Знаю ли я, достаточно ли или нет [причин], чтобы они были бесконечно могущественными? Знаю ли я, каких совершенств они лишены и какие должны иметь? Наконец, // не составляют ли они все вместе одного бога, которого вы именуете природой*, первоначалом, всем, высшим существом и который будет, если не желать лишь общего определения, подвержен сомнению только как нечто нами непознанное и непонятое?
* Здесь автор еще неопределенно говорит о пантеистических представлениях, однако далее (стр. 108—109, 134) он склоняется к ним.
Если спросят, что такое бог, я скажу, что это нечто неопределенное; если захотят заставить меня сделать еще один шаг, я скажу, что я знаю относительно того, есть ли он или его нет, существует ли нечто частное, которое есть он, а остальное — не он, существует ли он повсюду, есть ли все — он, не есть ли я // сам — часть этого всего? Знаю ли я, был ли я чем-то до рождения? И будет ли смерть моим концом? Ибо я вижу в моей смерти изменение, а не уничтожающий все конец, и в моем появлении на свет — порождение, а не сотворение и не мое начало, идущее из ничего: я мог быть чем-то, не зная, чем я был, тем более что я не знаю, что я такое. Я почитаю это смутное, общее нечто, лишенное всех покровов и неопределенное, которое я совершенно не понимаю. Я вижу в этом обширном пространстве Вселенную, в этих беспредельных пространствах, в которых мое воображение не находит ни // начала, ни конца, ни середины, бесконечное число существ, один атом которых я составляю. Я не знаю, являюсь ли я одним из них. Как я вижу, все ускользает от меня, все для меня непостижимо, сужу ли я о небытии, о мушке или о сырном клеще, как бы ни были они малы. Как могут судить эти бесконечные в своем величии Существа обо мне? Как только я хочу определить качество, дать имя этому неопределенному «нечто», я чувствую свое бессилие. Если это бесконечность, то мой конечный разум не может постичь бесконечное. Если это вечность, я в ней теряюсь. Каким бы именем я ни называл ее, я ошибаюсь, мой разум спотыкается, я не знаю, где я, и понимаю, // что совершил ошибку, желая сделать ее менее туманной, менее темной и менее непостижимой. Это божественное «нечто», которое можно объяснить несколькими способами, может быть определено в соответствии с каким-либо представлением, которое люди вырабатывают относительно божества. Это, быть может, все, что каждый в отдельности представляет себе, а может быть, совсем иное, чем то, что себе представляют. Все эти разнообразные имена, которые я дал первоначалу, и другие, которые мы можем еще дать ему, могут быть истинными. Все возможно, как я уже сказал, и мне достаточно этой возможности, ибо мой слабый разум не смог бы узнать, есть ли // на самом деле то, что может быть. Я замечаю, что сказал немало вещей, которые считают смелыми и безрассудными, потому что предубеждения и предрассудки детства извратили чистоту природы, в которой я хочу вновь утвердиться, чтобы мыслить здраво. Эти предрассудки обладают такой властью над нами, что люди не слушаются ни разума, ни справедливого рассуждения, как только они задеты, и не распознают грубых нелепостей, которые привычка и воспитание заставляют нас принимать за подлинный свет [знания]. Я замечаю
в лоне этой непроницаемой природы, — о чем надежно свидетельствуют мои чувства: достоверно лишь то, что все существа, так же как и я, находятся в непрерывном // движении; все трудится, все переживает пылкое волнение. Вот, следовательно, две вещи, которые я узнаю благодаря моим чувствам: материя и движение материи; существо и движение существа. Назовите каким угодно именем это движение — душой, жизнью, разумом, страданием, духом, изменчивостью, я не знаю ничего, кроме того, что эти существа движутся, я не ведаю, свойственно ли это движение им самим, или оно дано им другим [существом]. Однако я вижу, что одни из них движутся сами по себе, а другие, которые как будто пребывают в покое, обладают неуловимым внутренним и внешним движением, и как знать, не означают ли эти термины — душа, жизнь, разум, мысль, изменчивость, //изобретенные человеческим разумом, убежденным, будто он обнаружил причину, когда нашел некое наименование, которое он не понимает и под прикрытием которого засыпают его гордость и его лень, — не обозначают ли они различные виды этого общего движения всей природы? Как могу я знать, существует ли это отделенное от материи сущее, которое вы называете духом, из которого вы творите бога, который связан и естественно сочетается с материей, так же как это происходит в нас? Как могу я знать, не этот ли дух — бог, который сообщает материи движение (если и не наделяет ее всемогуществом), хотя он и отделен от нее? Все это возможно, и может существовать много вещей, которые не воздействуют на наши чувства. Но хотя дух может существовать без того, чтобы я его видел, // не является ли необоснованным предположение, согласно которому дух может быть? Не должен ли я скорее рассуждать о том, что я вижу, и не касаться того, что я не вижу? Я замечаю существа, которые воздействуют на мои чувства и которые движутся, вот и все, что я могу знать. Я не знаю, что они такое, благодаря чему они существуют. Существуют ли они сами по себе или благодаря чему-то другому, я не знаю этого так же, как и того, что представляет собой их движение. Имеет ли оно свою причину или нет? И я возвращаюсь к моему состоянию неопределенности как к единственному прибежищу, куда загоняют меня столько неясностей. Я определенно усматриваю в существах, которые находятся на земле, так же как и во мне самом, чередование состояний и вечное изменение, которое есть не что иное, как это общее движение всей природы. Ничто не остается // таким, как оно есть, и ничто не кончается и не переходит в небытие; из него ничего также не исходит; все происходит от чего-то, что изменяется в нем [самом], и обращается в нечто [такое, во что] оно превращается. Во что же? Ничто не начинает существовать, ничто не перестает существовать, происходит лишь смена состояний. Это чередование меняющихся вещей может быть вечно; эта смена преходящих вещей, постоянная и неизменная в своем разрешении, может длиться всегда и никогда не изменяться.
Почему же вы хотите, чтобы никогда не существовавшее «нечто» начало существовать? И чтобы мир возник из небытия, из которого на моих глазах ничего не возникало? И чтобы «нечто» вернулось к небытию, превращения в которое каких-либо вещей я не видел? Что я знаю о // небытии, из которого, как полагают, все проистекает и к которому якобы все должно вернуться или вновь обратиться в него? Я это не понимаю, все это — неясные, темные, пустые слова, придуманные человеком. Наконец, я не хочу извлечь других преимуществ из этого движения, из этого несомненного изменения, которое воздействует на мои чувства, кроме [убеждения], что все существа на земле изменяются, следуют друг за другом, воспроизводят и перемещают друг друга, не зная [при этом], что же представляет собой это изменение и это чередование и что их порождает, если они чем-то обусловлены. Может быть, это внутреннее изменение, которому подвержены земные существа, не существует в небесных, которые, как мы видим, всегда // сохраняются? Но жизнь этих небесных существ так же может быть ограничена, хотя она и длительнее, чем жизнь вещей в подлунном мире. Следует ли из того, что разум обречен удерживаться в своих границах и сохранять нормы, к которым я его принуждаю, из того, наконец, что я позволяю ему останавливаться только на том, что кажется ему достоверным, — следует ли из всего этого, что он не может согласиться на неведение, он, который ничего не ведает?
Что я также замечаю благодаря свидетельству моих чувств — это порядок, господствующий во всех существах во Вселенной, равно как и во мне: каждая часть ее устроена соответствующим образом, занимает свойственное ей положение, в котором обнаруживается правило, и обладает привычным поведением, которое не представляется
слепым действием // случая. Все эти существа упорядочены в своем движении и как будто подчинены законам, [ограничены] пределами, которые они никогда не преступают, и взаимными отношениями, что кажется мне проявлением своего рода рассуждения разума, ума, наконец, чего-то такого, что имеет отношение к моему способу разумения, и не только в их общем согласовании, но и во всех частностях. Вселенная при этом представляется мне формой республики, в которой небеса — сенат, земля — народ, и я в его числе. Я признаюсь: это рассуждение, этот разум Вселенной, это весьма разумное соответствие, этот здравый смысл природы вызывают во мне восхищение. Я // отлично распознаю себя в упорядоченном поведении этих существ, я даже вижу в них следы самого себя. Они судят так же, как и я, они рассуждают, как я, более того, я вижу, что я включен в это всеобщее и разумное согласие, что я вхожу в это хорошо устроенное государство и составляю маленькую часть этого великого тела, [впрочем], не самую малую, поскольку я больше клеща, который тоже не самый крохотный. Я не знаю, что собой представляет это всеобщее и справедливое правило, это упорядоченное движение всех существ, о котором мне свидетельствуют мои чувства. Как знать, не сами ли по себе они им обладают? Может быть, этот ум им присущ, неотделим от них и составляет части их? А может быть, он приходит к ним от другого существа, которого я вовсе не вижу? Могу ли я знать, открыт ли этот Порядок //разумом? Может быть, он сам по себе существует не в них [вещах], а в представлении, которое его себе рисует, может быть, употребление всех вещей придумано, открыто и примыслено, подобно красной краске, которая создана отнюдь не для дамских лиц, но, будучи на них наложена и столь часто употребляема, заставляет думать, будто в этом ее назначение и что она создана только для такого применения, или подобно настою, который можно использовать как слабительное, хотя он был приготовлен не для этой цели. Если я не хочу ошибиться, я не устремлюсь в своем суждении далее, чем следует. Я вижу существа, я вижу, что они движутся и их движение подчинено некоему правилу, и все это для меня достоверно. Но что такое эти существа, // что собой представляет это движение и какова его мера? Все это намного превосходит мое разумение, и я затрудняюсь остановиться на какой-либо догадке, к которой можно прийти. Кто может знать, одушевлены они или нет? И все ли одушевлены? Какие из них одушевлены, а какие нет? Разумны они или нет? Наконец, существуют ли они сами по себе или благодаря кому-то другому, который существует сам по себе? Природа нам свидетельствует только, что что-то есть, и останавливает нас на следующем шагу, [когда мы хотим узнать], что это.
Таковы познание и достоверность, которые могут обрести чистые лучи разума благодаря помощи чувств при изучении всей этой Вселенной, что должно было бы вести // меня к достоверному знанию бога. Заносчивый человек вышел из этих тесных границ разума. В своем невежестве он хочет все знать, но он выходит из границ разума для того лишь, чтобы заблуждаться. Он не хочет признать, что нерешительность есть единственная мера предосторожности против заблуждения. Он делает напрасные усилия, чтобы пробиться сквозь тьму, в которой он должен оставаться, и хватается как за истину за малейший обманчивый свет, заставляющий его думать, что он уже не находится во тьме. Какая нелепость! И вот застава открыта для всякого рода предубеждений, мнений, предрассудков и безумств — каких угодно заблуждений и иллюзий.
Нечего, стало быть, удивляться, что при выборе // божества человек высказывается за идею, которая более всего льстит его тщеславию. Люди отвергают свидетельство чувств, источник всех знаний, потому что чувства приравнивают их к бесконечному числу малодостойных существ и наделяют тысячью преимуществ по сравнению с ним другие существа, кажущиеся более совершенными. Человек изобретает бытие, отделенное от материи, и, чтобы освободиться от тяжести своего неведения и удовлетворить свое тщеславие и самолюбие, он именует его духом, которого он хочет сделать богом, неким существом-нечто, понять которое он не может. Он исходит из того, что все возможно и потому может существовать нечто, что не воздействует на чувства. Он творит себе бога на свой лад. Почувствовав безрассудство самочинного сотворения бога // и не будучи в состоянии оспорить его у стольких других, более благородных, чем он, существ, он отнимает у них все их преимущества и дает им некое высшее [существо], с которым он делит власть над всей Вселенной; он создает этот вымышленный призрак по своему подобию, он наделяет его разумом при условии, что бог скажет, что разделит этот разум только с человеком; он приписывает богу честь всего творения при условии, что бог скажет, что он все сотворил для человека; он приписывает лишь богу вечность при условии, что что бы бог ни предпринимал, только человек будет вместе с ним бессмертным его спутником в вечности.
Именно так, отказываясь оставаться на нижнем этаже, где, как говорят ему его чувства, он существует, и // пренебрегая тем, что он составляет маленькую и убогую часть этого великого целого, он похищает преимущества, которые другие существа имеют перед ним, и, если судить здраво, исключает их и лишает чувств и разума, чтобы превратить их в рабов и подданных. Это существо — дух — представляется воображению только в сопровождении противоречий, которые его разрушают. Это существо — ничто, которое повсюду и нигде, которое все заполняет и не заполняет ничего, которое во всем и ни в чем, которое есть все и ничто: великое без величия, совершенное без совершенства, все без всякого качества*. При всем внимании, которое уделяет этому разум, никогда мы не сформулируем эту идею духа иначе как смутно, // в туманном облаке, в связи с телом, с материальной формой, с чувствами, — это должно было бы нас убедить в том, что дух не существует. Хотя мы допускаем, что все возможно, но не все равным образом вероятно. Допустив существо-дух, как вы поймете эту связь духа с телом? Где окажется тот, кто нигде? Кто заключит его [в себе], того, который есть ничто? Все это я не могу постичь, все это противоречит себе и рушится само собой. Наконец, само по себе «что-то», этот бог, который не связан ни с какой другой идеей, остается нагим, смутным, неопределенным, недостоверным, вовсе не имеет имени, [но] не противоречит чувствам и разуму; // напротив, он ими удостоверяется, и я почитаю его в своем сомнении.
* Критикуя религиозно-схоластические представления о боге, автор почти дословно повторяет рассуждения Джулио Чезаре Ванини. Ср. J. С. Vanini.Amphitheatrum aeternae providentiae. Lugdunum, 1616 (цитируем но франц. переводу «Oeuvres philosophiques de Vanini». Paris, 1842, p. 5—6, далее — Ванини с указанием страницы).
Наши души, которые суть ничто, частицы этого великого ничто (если предположить его), превосходят наше сознание, хотя они и [находятся] в нас самих: все мои чувства мне говорят, что я существую, но не говорят, что я есть. Я беру за правило верить тому, что мне удостоверяют мои чувства, и не верить в то и не разувериваться в том, о чем они мне не говорят, а просто не касаться этого, не отбрасывая и не принимая то, о чем они мне не дают никаких свидетельств. Они мне дают знать, что у меня есть тело, которому свойственно движение, что я говорю и разумею, но причина этого разумения, этой речи, этой души, этой жизни, [а также то], связан ли дух с телом, каким образом я получаю его, от кого я его получаю, где он находится, где его нет, — // все это вещи, о которых мои чувства ничего не говорят, о которых я не хочу, следовательно, рассуждать и которых я не знаю. Есть ли он [бог] реальное существо или неотделимая от меня модификация моего тела? Что я об этом могу знать? Чувства не противоречат этим идеям. Так как они ничего не говорят об этом, я не стану выступать ни за, ни против, я буду нейтрален, я ничуть не желаю противоречить мнениям, о которых чувства мне не сообщают ничего достоверного, я выступаю только против тех мнений, которые они разрушат не благодаря молчанию, но из-за их явных противоречий, ибо возможны необыкновенные вещи, хотя они и недоступны действию чувств. Я буду верить, хотя я и пирронист, с наибольшей // уверенностью в существование того, что, как они удостоверяют мне, существует, я не буду верить в то и не буду знать того, существование чего они мне не удостоверяют, я разуверюсь и поверю [в несуществование] только того, несуществование чего они удостоверяют.
Наконец, чтобы не заблуждаться, я полагаю, необходимо следовать за ними [чувствами] шаг за шагом, как в их уверенности, так и в их безразличии и в их противоречии, и, пожалуй, этому правилу должен был бы естественно следовать человек, удаленный после рождения от деятельности людей и не испорченный предрассудками детства. Если что-либо во мне бессмертно, кто мне сказал об этом? Почему не может существовать идея, которую теперь разделяют почти все религии? Нет ни одного другого столь общего мнения, как это, недостоверность // которого была бы столь общепризнана. Как могу я постичь эту пресеченную вечность вещи, которая началась и никогда не кончится? Что, если мы предположили бы в качестве причины этого движения, этого рассуждения, наконец, вообще чего-то необъяснимого некое реальное существо, а не простую модификацию, как мы узнали бы, кончится ли оно? Если бы мы предположили вещь, которая не воспринимается нашими чувствами, то разве из этого следовало бы с необходимостью, что она длится вечно, не имеет никаких границ, [представляет собой] нечто духовное, которому не может быть положен конец? Ведь хотят, чтобы дух имел начало. И вот что еще: чрезмерно // верить только тому, о чем нам свидетельствуют чувства, и полагать, что все неподтвержденное ими — ничто; [надо], напротив, согласиться не знать этого и оставить это неизвестное в неопределенности. Мои чувства далеки от того, чтобы свидетельствовать о существовании во мне этого нечто, духа, предполагаемой причины моего рассуждения и разума. Они дают мне понять, что все зависит от судьбы тела, что все страдает, когда страдает тело, что я мыслю лучше, когда мое тело пребывает в зрелом состоянии, и хуже — при его упадке*.
* Автор определяет душу как совокупность мыслительных способностей человека. Ср. Спиноза, I, 457—461, 464—465.
Возможно ли это нечто, [дух], и подвержено ли оно порче, когда в смерти я перехожу из одного состояния в другое? Кажется, ничто во мне от меня не отделяется и меня // не покидает. Чувства обнаруживают изменения во мне, видно, что я перестаю говорить; но я все еще существо, которое воздействует на чувства. Я все еще не лишен движения души, а может быть, жизни и ума, я по-прежнему изменяюсь, как изменялся раньше, и я даже даю жизнь червям, которые шевелятся и, быть может, обладают чувствами. Кто знает, имею ли я то, что я даю? В нас происходит изменение, но я не знаю, каково оно. Никто не сказал нам. что он чувствовал, отчего он страдал, что он делал, о чем он думал в этом состоянии, и ничто не может это открыть. // Пусть громоздят горы книг на эту тему, ничего достоверного не обретут: я знаю, что я существую, я знаю, что я мыслю, но я не могу знать, благодаря чему я существую и что мыслит во мне. Если во мне есть я, отличное от меня, не был ли я чем-то до того, как стал тем, чем я есмь? Ведь не вышел же я из ничего, а был и раньше, хоть и не был тем, что я есмь теперь? Могу ли я знать, не был ли
я всегда чем-либо? Перестану ли я быть чем-то или, наконец, не кончусь никогда — я не могу знать всех разнообразных изменений, которые произойдут во мне или уже произошли, ибо моя жизнь была только изменением или смертью того, чем я был раньше, // так же как моя смерть не более чем изменение или жизнь того, чем я буду. Я знаю, что я существую, что я был чем-то и буду чем-то, что я изменился, что я изменяюсь и изменюсь; но это все, [что я знаю], ибо я не мыслю ничуть об остальном, о чем мои чувства ничего не говорят мне. И другие существуют, как я, все может измениться, но не погибнуть. Начало, конец, вечность, небытие — все это темные слова, которые я не могу постичь, которые я могу выбирать как попало или, скорее, которые я должен отвергнуть, если я не могу к тому же понять, как они возникли. // Есть нечто, которое, как говорят, никогда не начиналось и дало начало всему остальному. Не оказываюсь ли я
в том же затруднении, [когда хочу] узнать, каким образом оно никогда не начиналось и как оно может существовать. Если существа были сотворены, кто сделал того, кто их сотворил? Можно ли так идти до бесконечности? Если он может существовать сам по себе, они тоже могут существовать сами по себе. Мой разум равным образом смущен тем, что существует начало, и тем, что его никогда не было. Разуму обязательно нужна вечность, которой он не понимает, и начало, столь же мало // понятное ему: я не могу постичь ни того, что нечто, которого не было, начинает существовать, ни того, что нечто всегда существовало; вечность превосходит мое понимание, начало противно моему здравому смыслу. Мой разум приходит в смятение, противоречит самому себе, заблуждается, теряется при мысли, что нечто было всегда, и спорит сам с собой при мысли, что, существуя, оно не существовало всегда, а пребывало в небытии и затем вышло из него. Эти два непостижимых противоречия освобождают разум друг от друга, отсылают его от одного к другому, рвут его друг у друга, увлекают его с собой и отвергают, призывают // и отталкивают, словом, понуждают его со всех сторон и оставляют в неуверенности. Если мы призовем чувства на помощь в подобном замешательстве, они нам скажут, что, как они видят, нечто происходит от чего-то, уже ранее бывшего; что для них бытие начинается не с ничего, но от чего-то, что было; что они видят изменение, но не сотворение; что все сущее было чем-то до того, как стало тем, что оно есть теперь; наконец, что совсем нет начала бытия, но есть начало изменения. Вот что они видят и в чем можно быть уверенным. Но наша неуверенность вызвана тем, чего они не видят: наш разум столь властно принуждается следовать // за своими наставниками в познании, что он не может постичь вечности, хотя он и не видит начала, потому что чувства ему говорят, что они не знают, вечно ли все, несмотря на то, что они видят: все не имеет начала. Они не могут доказать, что то, что не начинается в настоящее время, не началось когда-нибудь в другое время. Один лишь опыт — а это наша наука — заставляет нас догадываться, что все, что воспринимают наши чувства, постоянно изменяется и, никогда не начинаясь, всегда было и никогда не начиналось. Наконец, они ставят разум перед необходимостью допустить непостижимую // вечность, которая недоступна разуму и о которой мы догадываемся, строя неизбежные предположения. Дайте эту вечность существам природы, свету или некоему существу — духу, наконец, любому первоначалу — она будет равным образом труднопостижимой и в не меньшей мере не заслуживающей усилий нашего воображения, к какой бы вещи она ни относилась. Я удивляюсь способу, который разум избрал, чтобы добиться определения, находясь между двумя противоречиями, не будучи в силах ни опровергнуть вечность, ни помыслить о чем-либо без начала. Он хочет согласовать и то и другое и гордится тем, что вышел из затруднения, когда наделил вечностью некое существо — дух, сделал его вечным, // началом всей природы, которая может быть вечной одна или по крайней мере наряду
с ним. Как страшат это неведение, сомнение, неуверенность! Он предпочитает нерешительности заблуждение, предпочитает подвергнуться риску ошибиться, чем смириться и остаться во тьме!
Если мы не можем представить себе, что некая вещь была вечно или что она началась, то равно трудно постичь, что она окончится или что она не кончится. Как постичь небытие? Ничто не есть нечто, это ночь, в которой мой разум бесполезен, и я могу поверить себе в том, что // что-то существующее может кануть в нее и не выйти [оттуда], перестать быть, будучи до того, стать ничем. Вечное сохранение также превосходит мое понимание, хотя мои чувства как будто бы согласны с ним в силу своего опыта, ибо разум остерегается считать концом и началом то, что представляет собой только изменение, превращение и вечное преобразование. Нет ничего более необычного, чем легкость, с которой засыпает ленивый ум, укрывшись за бесчисленными именами, которых он совсем не знает, такими, как инстинкт, разум, душа, память, склонность, предчувствие, вечность, время, природа, бог, случай, небытие, которые суть незнание и которые // он делает причинами и неведомыми создателями явлений, совершенно непонятных ему, и за которые он, как видно, жадно цепляется, явно чувствуя, что почва ускользает из-под его ног, как только он хочет углубить [свои представления], когда ему недостает истинного знания. Разум хватается за неясные и лишенные смысла имена, которыми он пытается удовлетвориться и ослепить сам себя и которые по существу суть какая-то маска из общих понятий, из которых складывается всякий язык. И ленивый ум, который ни во что не хочет проникнуть, засыпает под сенью этих слов. Они освобождают его от труда и усилий, которых ему стоила бы большая // внимательность; он чувствует облегчение от их подмоги в том утомлении, которое он испытывает при проникновении в непонятные вещи. И вот он строит рассуждение, полное обмана, являющееся не чем иным, как различными звуками, не имеющими никакого точного значения, которыми он, однако, пользуется с высокомерной уверенностью, желая при этом заставить принять их за подлинные основания и истинные причины. Если же захотят, чтобы он шел [в своих выводах] до конца, то увидят бесконечный прогресс значений этих предполагаемых значений. Это язык, который должен был бы поражать лишь слух, а не ум; он образован из слов, которые почти сплошь недоступны пониманию; его можно // остановить на каждом шагу: мы применяем имена вещей — лес, вода, хлеб, железо и прочие — почти так же, как имена собственные — Эдуард, Стюарт, Конде, Гиз, которые [сами по себе] ничего не говорят и служат только для отличия одного [лица] от другого, являются не правилом познания вещей, а правилом различения одних вещей от других. Благодаря именам мы знаем, самое большее, то, что предмет не представляет собой, но не то, что он есть. Однако разум, который, собственно, есть не что иное, как разумная привычка, как усвоенный с детства обычай, часто повторяющееся действие, руководствующееся обыденным разумом других // людей, что внушает ему лишь способности. Разум привыкает считать эти пустые звуки причинами, как если бы он понимал их, не углубляя их; почти так же слова «красный, зеленый, синий» могли бы звучать в устах слепорожденного, привыкшего произносить их потому, что он их часто слышит. Так же человек или животное могут в силу одной лишь привычки идти в какое-либо место, не обращая на то, что они делают, ни малейшего внимания и не сознавая [своих действий]. Насилие, которому нас подвергает эта привычка, столь велико, столь неодолимо, что нам надобны все усилия размышления, я не скажу, чтобы сбросить это иго // целиком, — это я не считаю возможным, — но чтобы не быть постоянно под его гнетом. Именно эта приобретенная вследствие воспитания привычка извращает наш здравый смысл и всю [нашу] природу, делая это столь соблазнительным образом, что мы сами обманываемся и не можем восстановить [первоначальное состояние], несмотря на все усилия размышления. Ясно, однако, что мы пребываем в заблуждении с момента, когда мы утрачиваем [здравое понимание] того, что трудно познать, ибо привычка и природа в высшей степени начинают походить друг на друга, если не остеречься. Неведение, в котором пребывает наш разум, должно было бы, следовательно, удержать нас в нерешительности и // остановить наше суждение, но этим доводом злоупотребляют, чтобы заставить разум принять все, что непостижимо. Верьте, говорят [нам], потому что вы не постигаете; если нечто возможно, верьте всему, что вам об этом говорят, поскольку вы не видите в этом ничего невозможного. Неведение искушают, добиваясь, из-за отсутствия разума, чтобы оно согласилось со всем тем непонятным, что ему предлагают взамен разума. Почему не сказать: [можете] не знать то, чего вы не знаете, не думайте об этом, не решайте ничего, оставьте все таким, как оно есть и каким оно может быть. Неведение соблазняют надеждой выйти из неуверенности, в которой оно, к своей досаде, находится. Великое, // редкое, чудесное, необычайное, которое разум любит, непонятное и темное, которое он ненавидит, обманывают его доверчивость, делают его склонным воспринимать все впечатления и даже, по-видимому, оправдывают его уступчивость. Им вертят как угодно при помощи этого соблазнительного блеска; ночь и тьма побуждают разум идти в ту сторону, куда его хотят повести: потемки, [в которых он находится], делают его послушным до такой степени, чтобы следовать за всяким, кто пожелает служить ему вожатым, не думая о том, что каждый проводник пребывает в той же слепоте, что и он сам. Это неведение, наконец, побуждает [разум] к выбору, тогда как оно должно было бы // удерживать его в сомнении и решимости ничего не решать, ибо в конце концов темнота и непонятность, которые разум ненавидит, являются скверными основаниями для определения веры, точно так же как ложный блеск чудесного и великого, который очаровывает разум, и нет такого мнения, которое не могло бы проникнуть в наш ум вместе с подобными авторитетами.
Примите, в качестве основания, что все возможно, что тысячи вещей могут иметь место, несмотря на то что мы их совсем не постигаем, добавьте необходимость выбора позиции, с которой я не согласен. Предложите также риск наказаний, которые возможны, если вы ошибетесь, с чем я тоже не // согласен. Тогда великое, редкое, чудесное и темное смогли бы побудить меня выбирать как попало, и этот выбор будет таким, каким пожелают. Эти соображения не являются подлинными доказательствами: они суть соблазны, которые подтверждают наши интересы, а не истину. Они, пожалуй, вызовут у нас желание верить, но не убедят нас в том, чему мы не заинтересованы верить. Так хозяева ли мы нашего верования? Зависит ли истина от наших желаний? И будет ли мерилом их наша любовь?
Я полагаю, что можно сетовать, стенать, // быть истинно раздосадованным своим неверием, не будучи в силах ни освободиться от него, ни убедить себя в том, что противно познанию; точно так же ошибаются люди, к какой бы религии они ни принадлежали, когда говорят мне, что они верят их самым непостижимым таинствам. Они не верят тому, что непостижимо. Они [лишь] говорят и заставляют себя верить, что они верят, ибо от их желания не зависит достоверность того, что на самом деле для них не достоверно. Они могут только говорить, что они хотят верить этим непостижимым вещам, и это желание столь сильно, что они скорее пожертвуют своей жизнью, нежели опровергнут веру. Однако // желание, а не суждение и убеждение определяют их действия и их уверенность. Они хотят действовать так, как если бы они были убеждены, хотя они и не убеждены. Наконец, если речь идет о надежной максиме, то только достоверность может определить наше верование и только наши чувства доставляют нам достоверность. Истина, таким образом, независима от моего суждения, и мое мнение отнюдь не заставляет ее покориться моим интересам, она всегда остается самой собой, несмотря на потоки разнообразных предрассудков, которые тщатся ее ниспровергнуть.
Что касается меня, то, как // я часто говорю себе, я не могу представить, что начало, которое заставляет нас действовать, отлично от принципа, побуждающего к действию не только животных, но и все другие существа. Эти семена разума, разбросанные во всей природе, участвуют в определенных отношениях, которые все имеет со мной и с моим образом мышления; последний может заставить меня считать, что все может быть [таким], как я, и что я лишен каких бы то ни было привилегий. Дайте какое хотите имя этому принципу движения, правилу, управляющему всеми существами, которые сознает разум и о которых мне свидетельствуют мои чувства: бог, душа, инстинкт, разум, дух, судьба, случай, свободная воля, себялюбие, природа, — // обо всем этом я могу судить лишь по тому результату, который вызывается одним только воздействием на мои чувства и который равен во всех существах. Все эти имена мне непонятны. Духовное существо может быть побудительным началом моего действия; это может быть душа, инстинкт, судьба, свободная воля, это может быть одно только себялюбие, это может быть природа, это может быть общая превратность бытия, это может быть случай, это может быть то неизвестное нечто, которому я поклоняюсь, это может быть нечто из всего того, что я только что назвал. При всех движениях, при всех событиях, при всех действиях всех существ оно превосходит мое разумение. Но я полагаю, что во всем имеется соответствующий результат, а именно: они [существа] существуют, // действуют и обладают мерой действия, движутся и имеют меру движения. Если я изучаю моих собратьев-животных, которые более всего доступны моим чувствам, как могу я познать, чем они отличаются от меня? Каковы [наши] близость, родство и сходство? Не вынужден ли я признать и распознать то, что они пьют, едят и спят так же, как и я; что они бывают здоровы и больны, что они имеют свои заботы, свои печали, свои способности, как и мы, что они чувствуют то же вожделение и те же радости, наделены теми же чувствами, более или менее совершенными. Они склонны к гневу, соперничеству, мести, страху, им свойственны предусмотрительность и уловки; они рождаются // и умирают, как и мы; разве нет у них желания и свободы воли? Не свойственны ли им дружба, связи и средства выражения, которые равносильны речи человека, умение дать себя понять, которое природа даровала всем животным?
Вот что свидетельствуют мои чувства относительно принципа нашего действия. Они мне ничего не говорят о том, что он может быть другим, они убеждают меня только в связи наших действий, благодаря чему мы можем узнать, что все мы судим и рассуждаем одинаково. Мне кажется, что пчела, будь она исполнена человеческой гордыни, могла бы вести такие речи: для // меня, и только для меня, создан мир; поля существуют лишь ради моей пользы; цветы, плоды, ручьи принадлежат мне. Бог создал все в моих интересах;
я одно из самых слабых существ в природе, однако я — самое благородное и самое первое существо, я обладаю разумом, который возвышает меня над всеми другими; одна я имею привилегию обладать законами, избирать царей, подчиняться управлению в соответствии с уложениями и заставлять соблюдать равенство; одна я предвижу будущее, зимние холода и ветры; одна я обуздываю бури, которые бы убили меня, если бы я была застигнута врасплох; лишь я строю города и жилища, чтобы предохранить себя от непогоды; только я умею придать себе // вес из опасения, что ветер меня унесет; хотя моя жизнь ненадежна и короче жизни оленя и человека, я могущественнее их, ибо душа моя бессмертна, а они умирают полностью, когда они умирают; пускай лев, бык или человек могут раздавить меня ногой — разум вознаграждает меня за все эти мои слабые стороны. Все они не более как орудия бога, который меня наказывает, как ему угодно, и, хотя эти жестокие люди и несправедливый шершень являются каждый день и постоянно похищают мой воск и мой мед, ничто не случается со мной иначе как по воле // провидения, которое непрестанно наблюдает за моей жизнью и учитывает мои поступки. Хотя солнце и небеса больше меня, я стою больше, чем они, ибо я одушевлена, а они нет; все они существуют только для меня, и если есть что-либо в природе, из чего я не извлекаю пользы, то это лишь оттого, что бог меня ослепил и помешал мне познать свойства этих вещей, дабы наказать меня. Я сознаю, что данные мне богом привилегии сочетаются с нуждой. Я обнаруживаю в себе великое смешение достоинства и слабости, величия и низости, великолепия и бесчестия; кажется, я должна была бы быть более счастливой и милость // божия, конечно, не подвергала бы меня стольким беспричинным бедам, [но], должно быть, я оскорбила бога, и это побудило его лишить меня всех преимуществ, которыми он меня наделил, создав меня, ибо я чувствую, что мне недостает чего-то, я даже желаю чего-то, желаю быть счастливой. Конечно, это предчувствие того, что я должна ожидать иного счастья, и внутреннее предупреждение, что здесь, в земной жизни, ничто, даже самые красивые цветы, совсем не должно меня привлекать: от моего прошлого состояния мне остается только что-то [такое, что должно] принудить меня сожалеть о нем, чтобы решиться претерпеть // наказание и страдать, чтобы понуждать меня восстановить [прежнее положение] своим прилежанием и трудом. Это ненасытное желание накапливать и владеть имуществом есть свидетельство существования тех благ, которые мы утратили, и оно будет удовлетворено лишь благодаря обладанию богом, который есть наша цель и от которого нас отдалило нанесенное нами [ему] оскорбление. С той поры смерть, болезни, ветры, люди и шершни нещадно преследуют нас и наша короткая жизнь наполнена тысячью невзгод. Солнце, которое должно было бы лишь светить мне, палит меня; цветы [существуют словно для того], чтобы сделать мой труд более тяжким; человек, предназначенный только для того, чтобы выращивать эти цветы для меня и мне служить, // часто сжигает меня, чтобы съесть мои сокровища; гром гремит, чтобы нас устрашить, дабы заставить нас думать о нашем долге и пробудить ленивых ради общего блага. Так разве не предназначены все творения мироздания специально для пчел?
Чем же различие между пчелами и нами отличается от различия между нами и слонами или китами? Мы — пчелы по отношению к бесчисленному количеству существ, которых мы помещаем ниже нас, и [других], которые превосходят нас в той же мере, в какой мы превосходим пчел, если мы хотим Ц по крайней мере верить тому, о чем нам говорят наши чувства: ведь [точно так же] и пчеле ничего не стоит сказать, будто бог сделался пчелой, дабы избавить [ее] от бед, и будто он снизошел до того, что погиб от огня и холода, дабы восстановить ее счастье. Я признаю на стороне человека тысячи преимуществ перед многими животными, но и многие животные обладают преимуществами перед ним. Однако наша гордость заставляет нас оставить их компанию, отрицать родство с ними и лишь нам приписывать бессмертие и разум. Наши чувства убеждают нас, что они действуют и живут, что они рождаются, живут и умирают, как и мы, [и, если мы] можем быть бессмертны, они могут быть // бессмертны тоже. Но чувства, эти наши верные проводники, ничего не говорят нам об этом. Все мы после смерти равным образом меняем свое состояние и положение. Словом, мы — существа, как и другие существа, и часть великого целого: не будем же гордиться прямосостоянием нашего тела — верблюд скорее смог бы похвастать расположением своих глаз и головы; не станем хвастать нашим достоянием: первейшее благо — это здоровье и покой, а ими в гораздо большей мере наделены животные; природа (а не воспитание) позволяет // им следовать здравому смыслу. Если мы будем следовать природе и подражать нашим собратьям в их поведении, мы будем ошибаться меньше. Наше здоровье и наше счастье будут более соответствовать друг другу, наши мнения и рассуждения станут справедливее и прямее, чем если мы будем вечно советоваться с предрассудками детства и воспитания, являющимися плодом воображения нашего разума и того разумного рассуждения, которое мы столь восхваляем и которое все испортило, отвратив нас от общего пути, ввергнув нас в заблуждение, подменив собой природу, а ведь последняя была бы гораздо более правомерно нашим h разумом и нашим разумным инстинктом, которому мы должны следовать и которого придерживаются животные. Наконец, нужно снова сказать, что принцип действия всех существ, которых воспринимают наши чувства, невидим и неизвестен. Невежество должно удерживать нас в нерешительности: может быть, наш разум есть не что иное, как внутреннее чувство, которое сообщается с внешними [чувствами! и является как бы их главой. Следовательно, все, что угодно: инстинкт, разум, свободная воля, желание, судьба, случай, бог, природа, которые господствуют над всеми явлениями, движениями, преобразованиями и действиями Ц всех существ Вселенной, — все это недоступно нашему пониманию, наши чувства нам свидетельствуют только об их существовании и общих движениях и правилах и ничего не говорят об их причине. Признаем же, что мы не знаем их и будем сомневаться, сколько захотим!
Если мы найдем силы восстановить эту природу с помощью наших чувств и примера наших собратьев — животных, которые, как видно, не выходят за ее пределы, сколько бесполезных призраков исчезнут перед нами? Если бы размышление могло ниспровергнуть эту вторую натуру, которую образуют воспринятые и усвоенные в общении с людьми мнения, чем стали бы эти идеи чести, // славы, истины, равенства, преступления, порока и т. п., которые суть всего лишь мнения, не содержащиеся в природе, бессодержательные призраки, порожденные пустой фантазией человеческого мозга, ложное добро и ложное зло, порожденные воображением, чтобы создать правление, которое законы с трудом поддерживают.
Поэты с их вымыслами присвоили себе свободу говорить, что люди жили когда-то, как другие животные, рассеянные по полям, без общества, без законов, без надзора и без различия, помышляя, каждый в отдельности, только о том, как бы выжить и сохраниться*.
* Имеются в виду представления античных поэтов: Гесиода («Труды и дни», 109—201), Овидия («Метаморфозы», I, 89—160) и др.
Быть может, у поэтов было намерение // внушить нам мысль, что именно таково было наше естественное состояние, подобное состоянию других животных, живущих без закона, без царя, без бога, без добродетели, без порока, без славы и стыда. Наши чувства говорят нам, что всем существам свойственна природная страсть, состоящая в любви к самим себе и желании самосохранения. Всякое существо, естественно, любит себя, и это себялюбие есть, быть может, принцип его действий. Прочие страсти человека и животных составляют лишь ответвления от этого ствола*.
* Рассуждения о страстях как основе человеческой природы автор мог заимствовать у Спинозы (ср. I, 537—538).
Все существа находятся в состоянии непрерывного изменения, которое их препровождает в страданиях к их концу или, скорее, к изменению, которого они страшатся. Вся природа, стало быть, страдает, ибо все хочет сохранить себя // таким, как оно есть, и трудится над этим: все пребывает в желании быть всегда, всякое существо с трудом борется против своего изменения и конца, к которому оно фатально устремлено, несмотря на свои намерения. Наконец, можно было бы сказать, что себялюбие — это бог мироздания. Любить себя — это, следовательно, единственная печать или страсть природы, неотделимая от всех существ, а все другие суть лишь разные имена, под которыми различается себялюбие. Не требуется воспитания, чтобы сообщить нам эту наклонность, и этим стремлением к сохранению мы не обязаны предрассудкам детства или примеру других людей, так что, будь они необщительны, они [и тогда] все приобрели бы это общее // свойство, которое будет вечным. В этом мотив их действий, общий для всех других существ, обладающих движением, которое, как видно, проистекает от необходимого изменения, беспрестанно разрушающего их, и от ненависти к изменению, которая их никогда не покидает. Сила и насилие суть их честь, их добродетели, которые руководят нашим суждением и одушевляют и изменяют по своей прихоти наши мнения, наши решения, наши действия. Не есть ли разум не что иное, как себялюбие существа, которое его возбуждает и воодушевляет, дабы сдерживать то, что его побуждает к изменению, и искать то, что это изменение задерживает? Именно это делает все наши чувства разветвляющимися подобно ветвям и // частями разума и субъектами себялюбия. Вот в чем состоит инстинкт или общий принцип всего сущего. Вот правило и цель всех этих прекрасных преимуществ разумности, которые мы приписываем одним себе и которые суть не что иное, как общий признак всех существ, благодаря которому мы признаем их такими же одушевленными, как мы сами, и даже видим, что животные, побуждаемые тем же стремлением, лучше нас умеют пользоваться этими преимуществами ради самосохранения и что в этом смысле их хитрости, ухищрения, речь, наконец, разум столь же гибки, как наши, потому что животные часто упражняют их, а ведь разум и есть всего лишь навык и привычка. Из этого начала возникли все // страсти, гнев, дружба, ненависть, месть, боязнь, тщеславие, надежда и людское себялюбие, которое кажется столь несвойственным общественной жизни,
и то, что образует общие потребности, объединяющие людей. Люди собрались вместе, чтобы лучше снарядиться для борьбы с суровыми временами года, либо со зверями, либо с голодом. Этот соединяющий их узел сам разрушает их связь, и потому понадобилось сформировать и привить обществу себялюбие, ограничить его должными рамками, заключать соглашения, чтобы удержать в равновесии различные интересы, установить иную справедливость, иные добродетели, иное равенство, иные почести, нежели справедливость, добродетель, равенство и честь силы, этого единственного закона, признанного любовью к самому себе, // ибо никогда это общее согласие не могло бы просуществовать, если бы его предоставили самому себе во всем его объеме. Вот почему созданы законы, полиция, чтобы поддержать слабого против сильного и чтобы образовать равную [для всех! справедливость, благодаря которой все люди соблюли бы свои интересы, и самая большая жертва — [жертва] преимуществом силы — обеспечивала бы преимущество, полученное от общества: каждый соглашается не причинять зла другому при условии, что тот ему его не причинит со своей стороны, и творить всяческое благо, какое только в его власти, при условии, что ему воздадут той же монетой. Словом, устанавливают в качестве принципа не делать другим // того, что не желали бы, что бы им сделали, с целью себялюбие себялюбием же и ограничить. Нас связали этим общим соглашением — боязнью наказания, которым угрожают всем, кто будет противостоять договору, ради которого общество вооружается, дабы поддержать свои законы — эти скрепы его связей*.
* Здесь и далее автор близок к учению об общественном договоре в том виде, как оно излагается Гоббсом (2, 149—155, 192—196) и Спинозой (II, 54 и далее).
Но так как законы могли бы оставить безнаказанными кое-какие их нарушения, которые могли бы быть допущены, а тьма ночная, по-видимому, может дать всем волю следовать [побуждениям] своего себялюбия, то люди выдумали взирающего на все необъятного, невидимого и всевидящего бога, наказывающего всех, кто ускользнет от строгостей закона и // общественного мнения. Ведь признано, сколь нуждаются эти законы в такой поддержке и в какой мере этот необходимый обществу договор будет нарушаться, если его не подкрепить столь великой властью: изобрели бессмертную душу, с тем чтобы даже после смерти люди могли быть наказаны или вознаграждены за точное соблюдение упомянутых повелений [бога] и гражданских установлений и чтобы те, кто спаслись от законов, не могли избежать суда защитника законов.
Эти идеи не врожденные, но они вполне последовательны и связаны с себялюбием, ибо боязнь зла и желание блага образуют идею бога и бессмертия души. Не следует думать, что они оскорбляют себялюбие, главенствующее над // всеми страстями. Вначале они, напротив, льстили ему, прельщали идеей мести: [если] я оскорблен каким-нибудь преследователем, идея о победе над ним сладка мне. Идеи эти благоприятствовали идее о существе, которое меня вознаградит победой; они угождали тщеславию. Я хочу быть значительным, а идея охраняющего меня бога возвеличивает меня. Эти идеи поощряют боязнь: я предчувствую опасность, и идея защитника меня утешает. Наконец, надежда, дружба, желание, ненависть, мстительность, гнев, страх, тщеславие — все [эти чувства] ведут к восприятию идеи бога и бессмертия души. Такая идея успокаивает наш дух и отлично занимает наше внимание, [пользуется] нашим уважением и // любовью. Все страсти, так сказать, гнались за нею, чтобы сосредоточиться в ней, и преимущество в данном отношении люди уступили страху только потому, что он кажется сильнее других [страстей]; отдадим же его князю страстей: именно себялюбие в своей доверчивости принимает или отвергает [эту идею] в соответствии с различным толкованием своих интересов. Сами чувства борются с указанными идеями — мы соприкасаемся со всеми существующими вещами, не видим всех их и знаем, что может быть нечто такое, что мы не видим. Это благорасположенное к каждому человеку общество создало своих вельмож и царей, чтобы поддерживать его, создало неким образом видимого бога, которому оно поручило заботу наблюдать за выполнением договора. Все они, не будучи сильнее, чем // были в прошлом, сильны лишь благодаря согласию людей, которые допускают их ради своих интересов и сохранности общества: законодатели или завоеватели всегда сохраняли эту идею божества, которое охраняло бы им их законы и их могущество. Они ее так же очищали, делали ее то более грубой, то прикрытой в зависимости от того, что требовал их интерес и что допускала примитивность народов. Они изобрели культы, поражающие чувства людей, способные, так сказать, облечь во плоть это божество и сделать его как бы чувственным и вечно присутствующим. Эта республика, этот союз противоположных сторон не требовал никакой [иной] поддержки для устойчивого существования. Оказалось также, что воспитание способствовало // сохранению этого соглашения, и нежный возраст детства, в котором легко воспринимаются любые впечатления, был отведен на то, чтобы придать [человеку] такой характер, который способствовал бы поддержанию этого общества. Именно в данном возрасте потребовалось противодействовать природе, стирать, разрушать ее, чтобы сломить наши наклонности в угоду законам.
Наконец, с целью внушить нам различные мнения, склонности, способности, таланты, которых нам не дала природа, но которых требует от нас человеческое общество, решили считать злом все, что противоречит этим необходимым законам — принципу всякой связи, и благом все, что соответствует им. [Так возникли] два имени, которые // умножают посредством различных других имен, таких, как преступление, злодеяние, грех, порок, позор, добродетель, правосудие, справедливость, честь, слава и тому подобные синонимы, означающие добро или зло и являющиеся не чем иным, как нарушением и несоблюдением этих законов, установленных ради общей пользы, при содействии чувств и природы: зло есть то, что нас заставляет страдать и ведет нас к концу; добро — то, что отделяет от нас и то и другое. Боль, забота, горе суть зло, оскорбляющее это желание естественного сохранения. Удовольствие, радость, счастье — добро, которое ему соответствует. Наконец, зло есть нечто такое, чего избегает себялюбие, а добро есть нечто такое, чего себялюбие ищет. Но есть также много // благ и зол вымышленных, существующих не в действительности, а лишь во мнении, только в фантазии, призраков, созданных по образу подлинного блага и настоящего зла, чтобы подчинить себялюбие законам, словно можно замедлить или ускорить движение существа к его концу.
Человек — жертва своих собственных склонностей; детям говорят слова: зло, преступление, злодеяние, грех, порок, сопровождая их жестами неприязни и ужаса, которые благодаря своему воздействию на чувства ребенка усиливают его склонность ненавидеть, ужасаться и поступать так, как если бы ему от этих поступков угрожало зло. Напротив, // слова: добродетель, честь, удовольствие, радость, счастье, справедливость, равенство — произносят со смеющимся и приятным выражением, что побуждает любить и искать их. Этими видимыми жестами мало-помалу направляют склонность, куда хотят, льстя ее интересам, тогда как они всего только чувственная [видимость] и служат для обмана. Это болезненное изменение всей природы, это волнение, это тягостное и естественное движение всех существ есть тот принцип, который заставляет нас ненавидеть или желать, бояться или любить и составляет для нас зло и добро, наше несчастье или счастье, нашу скуку или удовольствие, ибо удовольствие, как видно, есть волнение чувств, сладостное // движение, поглощающее их; это, собственно, жизнь существа, отчего мы так его любим. Скука, по-видимому, есть образ небытия, которое мы ненавидим. Эта необходимость быть и меняться, это желание сохраниться и эта фатальная неизбежность изменяться или гибнуть равным образом делают покой тяжелым или приятным и волнение — приятным или тягостным. Волнение нравится нам потому, что в нем — жизнь существа, и оно утомляет нас оттого, что это поток, который низвергает нас в небытие. Покой нам нравится потому, что он — замедление бытия, и утомляет нас оттого, что это — вид смерти и небытия для существа, которое стремится сохраниться, // устремляясь к [своему] концу. И то и другое поочередно нравится и не нравится нам. От удовольствия мы переходим к скуке, а от скуки бросаемся к удовольствию, в волнении мы ищем отдыха, а в отдыхе — волнения. Удовольствие есть часто всего лишь скука от нашей бездеятельности, настойчивое желание; подчас оно только облегчение, отдых от работы, прекращение тягот, словом, бездеятельность, которая перестает нравиться, как только человек ее обретает, удовольствие, которое перестает быть таковым из-за привычки и от которого всегда переходят к скуке, кажущейся основой всей нашей жизни. Можно, пожалуй, сказать, что существует только переход от одного к другому, и он-то и составляет истинное удовольствие.
Возвращаясь // к нашему рассуждению, [скажем, что], какую бы окраску ни принимали зло и добро, они тем не менее суть мотив всех человеческих действий и мнения людей, идеи, которые ими движут и запечатлеваются благодаря чувствам в воображении ребенка при посредстве звуков слова, сопровождаемого приятным или неприятным, нежным или ужасным выражением. Однажды запечатленные, [эти идеи] почти никогда не могут оставить человека и затемняют естественный свет. Познавая добро и зло, люди привыкают к этим идеям, привязываются к тому, что они усвоили, не желают отказываться от него и, наконец, уже в более зрелом возрасте верят, потому что не имеют сил и интереса не верить авторитету // воспитания, |[Не следовать] примеру и [не внимать] боязни, [направленных на то], чтобы подавить себялюбие и принудить себя жить в этом обществе, которое стремятся учредить лишь средствами воспитания. Фантастические чудища преступления, порока и греха, злодейства, бесчестия и прочего — все это есть кажущееся зло, которое угрожает сделать человека несчастным либо в этой жизни, либо после смерти. Одновременно его завлекают приятными призраками — честью, добродетелью, славой, равенством, видимыми благами, сулящими ему счастье, чтобы облегчить соблюдение законов, ограничивающих его склонности.
Наконец, все, что мешает // обществу, воспринято нашим умом с идеей вещи, которой наше себялюбие должно избегать, как если бы она была предосудительна. Добро и зло, норок и добродетель, позор и слава не более как отношения к закону и не должны быть не чем иным, как призывом следовать всеобщему общественному договору, а не реальным злу и добру. То внутреннее движение, которое обязывает нас смотреть на самих себя как на преступников и заставляет нас страшиться наказания либо от людей, либо от бога, есть только эффект этого предупреждения, к которому нас приучают идеи нашего детства, [предупреждения] относительно нарушения общего договора.
Мы связываем честь с добродетелью // , то есть с соблюдением закона, а бесчестие — с преступлением, то есть нарушением закона. Эта честь есть воображаемое благо, ибо себялюбие льстит себе, полагая, что оно полезно для сохранения; а бесчестие — ложное зло, которого человек считает должным избегать потому, что оно грозит ему настоящим злом. Такое благо или такое зло состоят только в суждении, которое люди делают о нас, и к этому суждению, как хорошему, так и плохому, мы очень чувствительны, Мы претендуем на какой-то род жизни в разуме каждого человека и тешим себя мыслью, что живем в нем, хотя бы и в скверном состоянии; ничто не ненавидя так [сильно], как то, что нас не замечают, все хотят жить, пусть даже несчастною жизнью. Я полагаю, что наше тщеславие есть лишь наше себялюбие, // проистекающее от суждения, которое мы имеем о самих себе. Это себялюбие суждения, или скорее мнения, или противопоставление суждения небытию. Хорошая или дурная известность — это род жизни, которая успокаивает наше чувство относительно того конца, которого все мы так страшимся. Почести как будто укрепляют и умножают [наши силы] против небытия. Слава, которая есть всего только звук, как будто бросает вызов небытию и делает нас вечными по отношению к нему. В бесчестии, напротив, ощущается небытие, оно нас в него ввергает. Вот почему мы столь чувствительны к мнению, которое люди имеют о нас, — оно единственное вознаграждение или возмездие, которыми они платят более или менее точно, // удовлетворяя общему мнению. Суждение людей столь важно для нас, что мы часто устраиваем наше счастье в зависимости от него, и наш разум столь безразличен ко всяким мнениям, которые безразличны сами по себе, что мы не имеем никакого труда сообразовываться с ним. Мы гнушаемся того, что считается гнусным, мы находим приятным то, что, как нам говорят, приятно. Мы избегаем, ненавидим, утверждаем, хвалим, восхищаемся, смеемся, плачем, пугаемся совместно с другими благодаря одной только покорности общему мнению, которое определяет наше безразличие. Добро, зло, порок и добродетель, позор и слава — это только то, что // нам внушают в качестве добра или зла, пороков и добродетелей. Хамелеоновское поведение и это безотчетное легковерие доказывают, что мы ничего не знаем.
Тирания этого людского суждения, которое господствует над нами в силу предубеждения начиная с детского возраста, познается особенно в бесчестии, которое оно сообщает самым естественным поступкам, в той мерзости, которую оно заставляет нас обнаруживать в какой-либо склонности, которую, не будь предубеждения, мы бы проявляли столь же свободно, как желание пить и есть. Суждение людей стремится злоупотребить слабостью детства, чтобы предупредить [указанную склонность] // воспитанием. Это суждение может заставить [нас] обнаружить нечто мерзкое в еде и питье и во всех прочих вещах, за какие только оно не возьмется, ибо человеческое суждение [выносит решение о] поношении или почести, пороке или добродетели, когда оно сталкивается с чем-либо противоположным тому, что оно установило. И если бы даже бесчестие стало славой, а порок превратился в добродетель, мы бы погнались за ними, мы бы возлюбили их. И хотя рассуждение и заставило бы нас признать ложность этого и вразумляло бы нас, мы поступали бы противно разуму, никогда не будучи в силах стряхнуть ярмо, которым тяготит нас суждение людей. Мы не в силах противостоять толпе и числу [мнений] // и часто познаем истину, следуя лжи. То, что мы намереваемся хвалить, есть, таким образом, добродетель, которая является таковой только из-за того, что ее хвалят, а то, что мы беремся хулить, есть порок, оказывающийся таковым лишь из-за того, что его хулят. Суждение человека придает тому, что ему нравится, красоту или предполагаемое уродство, и только оно и нужно людям; лишь бы это суждение одобряло нас, удостаивало нас похвал и уважения, а там уж нас весьма мало беспокоит, достигли ли мы их тем путем, который нам предписан. Мы рады их иметь, хотя и знаем, что не заслужили похвал и добились их только благодаря обману и ошибке.
Именно это суждение обладает // силой, способной вести людей на добровольную смерть и заставлять их всем жертвовать ради видимости, лишь бы оно нас выставляло [напоказ] и превозносило. Потому-то и получается, что каждое вероломство обладает своими почестями, своей славой, своими пороками, своими добродетелями, своим равенством, своими законами и своим стыдом, отличающимися друг от друга в разных уездах, и что нет никакого закона, никакой склонности, помимо всеобщей и неискоренимой любви к самому себе. Часто добродетель в одной стране составляет порок в другой; нередко честь в одной местности становится бесчестием в десяти шагах от нее. Порой один только переезд через реку изменяет лицо факта, а какая-либо наклонность является пороком на одном берегу и добродетелью — на другом, гнусностью по одну сторону и славой — по другую. Один и тот же человек при переходе [через эту реку] может быть // добродетельным или порочным поочередно, через какое-либо мгновение. Следовательно, все это — только мнение: доблесть или честь, добро и зло, слава и позор. Все эти слова не более чем суждения людей, порицания которых страшится каждый человек, их же господин; все они обладают пороком, реальностью, содержанием только в воображении, которое располагает ими по своей воле и обозначает все, что желает, терминами «добро» и «зло». Именно это суждение желает, чтобы в одной стране было добродетельно съедать своего отца, словно ему нельзя было устроить более почетного погребения иначе как в самом себе и словно было бы отцеубийством захоронить его в земле и предать гниению. Все, стало быть, зависит от // того, с какой стороны нам представляют вещь, чтобы породить в нас этот ужас, эту ненависть или эту любовь, к которым жесты приязни или отвращения наших родителей приучили нас в детстве, когда они обучали нас словам и внушали нам свои идеи.
Все мы в такой степени рабы суждения, что поток всеобщего мнения увлекает нас, несмотря на противодействие нашего частного убеждения, которое не способно нас удержать. Мы следуем примеру, который есть не что иное, как суждение, подтвержденное следствиями, и наше обманутое себялюбие заставляет нас даже рисковать нашим существованием ради этого вымышленного бытия мнения. Мы видим величайших людей, плененных благодеяниями и почетом того самого // общества, которое они презирают не только в возвышенных деяниях, но также в самых подлых и самых низменных. Все, начиная со славы победителей в игре на лютне или метателей мяча и кончая честью умелого выращивания дерева, не оставляет их безразличными, и они не станут пренебрегать наградой за силу, за победу в [состязании] по пению и за ловкость, если они могут претендовать на успех. От того-то и существуют модные добродетели и почести, являющиеся не чем иным, как преходящими законами, которые навязывает суждение. Все, даже радости чувств, признает власть этого суждения. Это щекотание, которое передается нам то через вкус, то через прикосновение, // то через слух, то через обоняние и которое как будто должно существовать само по себе, судить само о себе и зависеть только от себя, будучи материальным, телесным и вещественным, как у животных, у которых оно постоянно равно самому себе, всегда одно и то же и неизменно, — это ощущение уменьшается или усиливается в зависимости от суждения другого [человека], которое определяет наше суждение и наши чувства. Присущее животным неизменное наслаждение во всей чистоте их природы [не] испытывает воздействия этого общественного мнения, которое искажает наше [мнение], а оно [в свою очередь] портит наши чувства. Это все похоже на то, как если бы, съедая что-либо, человек спрашивал у своего соседа: «А вкусно ли то, что я ем? Нравится ли мне вкушать это?»
И кому следовало бы // решать эти вопросы — мнению другого человека или вашему собственному нёбу? Однако авторитет чувств нередко побеждается авторитетом этого суждения. Чувство, которое должно было бы быть верховным судьей, покорно принимает его решения.
У нас почти нет счастья, радости и удовольствия; мы имеем их лишь постольку, поскольку они есть в суждении других, постольку, поскольку нам предписано иметь их в определенных случаях и в связи с определенными предметами, когда это разрешено; если иногда убежденность чувств противостоит силе этого суждения и если последнее не может полностью воспротивиться ему, оно по крайней мере извращает и искажает всю природу весьма // уродливым образом. Ибо если моя склонность, приведенная в соответствие с воображением другого человека, не может заставить мои чувства уверовать, что они не испытывают удовольствия в любовных делах, то по крайней мере она делает так, что чувства получают лишь часть этого удовольствия, и часто может помешать ему или сделать его более или менее живым, более или менее безвкусным; наконец, всякое удовольствие, всякое щекотание чувств без того, что присоединяет и добавляет к нему мнение, суждение и воображение другого человека, — это слабое удовольствие, и оно весьма мало чувствуется, так же как всякая боль и страдание без этого добавления мнения обладает весьма малой остротой и силой. Но в конце концов, когда удовольствие ощущается, какое значение имеет его причина, произведено ли оно // этим щекотанием [чувств], или чужим воображением, или моей собственной фантазией, или ложью и обманом? Если ложно, что вещь приятна, то истинно и определенно, что она мне понравилась. Таким образом, мое удовольствие всегда реально и подлинно, я это чувствую, хотя и через мнение [других]. Достаточно, что я это почувствовал: если я пью абсент и чужое и мое мнение могут заставить меня ощутить приятную сладость сахара, я буду этим доволен. Это показывает нам, что мы сами создаем наши страсти, наш темперамент, наши наклонности, нашу склонность [к чему-либо] посредством собственного и чужого побуждения. // Мы в какой-то степени вольны идти вперед в страдании и в наслаждении; мы сами себя обрекаем так или иначе на горе или на радость; мы сами заставляем себя более или менее чувствовать зло или добро, и наша ненависть, наша любовь, наш ужас, страх, гнев, наша зависть и скука часто зависят от порыва, который мы испытываем, идя к ним; и в самом деле, наши страсти владеют нами лишь постольку, поскольку мы к ним устремляемся. Мы испытываем ненависть и любовь к чему-либо только в той мере, в какой вызываем их в себе. Мы избегаем того, что заставляем [себя] избегать, и любим то, что заставляем [себя] любить. Словом, все наши страсти // часто имеют столько же [произвольного], сколько истинного, и поддерживаются и тем и другим. Наша склонность ждет нашего приказа, мы руководим собой посредством суждения общества, которое похвалами или порицанием приучает наши наклонности ненавидеть или любить, называя нечто добродетелью или пороком, честью или бесчестием. Всем нашим проявлениям радости и печали, любви и ненависти, жалости и гнева, великодушия и смелости или страха свойственны ложные движения [души], которые им сообщаются нашим тщеславием или нашим интересом и которые, помимо нашего согласия и так, что мы сами этого // не замечаем, оставляют в нас след притворного чувства и добавляют к истине наших внутренних и действительных чувств всю силу, живость и даже реальность ложных впечатлений, притворное переживание которых заставляет нас приукрашивать себя. В этом смысле неверно, что женщина не испытывает выражаемого плачем горя от смерти своего жестокого мужа, воскрешение которого она стала бы оплакивать еще более; она в конце концов начинает его испытывать, несмотря на радость и преимущества, которые ей эта смерть приносит. В том-то и дело, что мы, сами себя не зная, не знаем и наших наклонностей.
В нашем сердце — тысячи вещей, о которых мы не подозреваем, в нем происходит тысяча неприметных // движений, которые нас направляют и нами правят, хотя мы этого и не чувствуем. Душа затронута всем этим, хотя мы этого не сознаем; ложь, плутни, боязнь и все страсти скрыты в ней тайно от нас. И лишь случай дает нам знать о нас же самих. Мы столь же недостоверно можем судить о самих себе, как судят о нас другие люди, — только по действиям, которые мы производим.
Когда я хочу отвечать за себя, я вижу, что ручательство других столь же хорошо и надежно, как и мое собственное, или что мое [ручательство] столь же мало обосновано, как и чужое.
Я знаю не лучше // других, на что я способен. Словом, я ускользаю от себя самого и познаю свои силы и наклонности только по опыту, на который я могу положиться, каковы бы ни были мои действия в настоящее время, лишь в момент действия, совсем не зная, каковы будут мои поступки и моя мысль в другой момент, который может застать меня совсем другим. Ибо настроение мое меняется с часу на час, так же как, скажем, мое положение, и если я сегодня не тот, что вчера, то какое право я имею [ныне] на самого себя через месяц? Суждение людей, бояться которого нас // так приучили, непрестанно побивает наше себялюбие, чтобы приспособить его к гражданскому обществу, которое им же подрывается. А так как подавить себялюбие, нашу любовь к себе нельзя, им самим пользуются против него же, его обманывают, им помыкают во имя пресловутого интереса, при посредстве которого его водят за нос; поскольку же себялюбие нередко возвращается к своему подлинному интересу, отвергая интерес, который предлагает ему суждение общества, и поскольку насилие, совершаемое над ним общественным мнением, не разрушает до конца [его] природу, то нельзя догадаться, в каком случае себялюбие и природа победят суждение общества или окажутся побежденными, либо, наконец, угадать образ его действий // среди стольких сил, которые на него воздействуют. Ведь свобода воли есть тоже вымышленное имя. Этот фантастический выбор, привилегия, которой нас тешат, не более чем выдумка разума, предназначенная сделать нас достойными наказания или вознаграждения или, скорее, придать оттенок справедливости тяготам, на которые мы обречены за наше неповиновение общему договору. Все, что мы любим, мы вынуждены любить и не можем не любить. Свободы нет, высшее благо или высшее кажущееся зло навязывают неодолимую необходимость нашей ненависти и нашей любви. Мы ненавидим по необходимости // и любим так же. Мы любим, короче говоря, не потому, что нужно любить, но потому, что мы любим; наше себялюбие часто имеет в виду два интереса, оспаривающие его, но более сильный в его глазах интерес постоянно и неодолимо влечет его к себе, так что, не имея выбора, оно любит, оно хочет его; охотно и необходимо принимает и не может не желать и не любить его, поскольку не считает и не видит его более слабым. Вот откуда проистекает эта воля, временами противоположная самой себе, коль скоро себялюбие стремится к благу, которое интересует его, или ко злу, которое суд общества ему предлагает, — и то и другое почти // всегда противоположны, противопоставлены друг другу, и несовместимы друг с другом. Вот источник этого непрестанного спора наших желаний и движений [нашей души], которые разрушают друг друга, и суетных оснований, которых ищут люди. Дело ведь в том, что, какую бы причину неведомых нам вещей нам ни предлагали, мы поспешно хватаемся за нее — она умеряет наше неведение.
Мы любим, чтобы нам предлагали какой-либо план, порядок, соответствующий тому, что мы ощущаем в самих себе, и тому, что мы видим вовне; какая разница, к чему его приспосабливать! Мы хватаемся за то объяснение, которое
нам дает сравнение, соблазнительные чары которого дурачат нас. Такова картина, восхищающая нас // тем, что отображает соответствующие идеи; таков смысл, довод, составленный в соответствии с вещью, которая, как нам кажется, просвещает нас; таково кажущееся объяснение загадки, прибегая к которой мы обольщаемся слабым светом [истины]; таково вымышленное отношение, кажущееся нам подлинным. Все эти ложные тонкости нас тешат, забавляют во всех случаях, когда наша гордость с горечью сознает слабость нашего разума и думает спасти его от стыда и освободить себя от труда идти вглубь. Наконец, можно найти тысячу отношений и условностей, которые разум умеет приноравливать к такой // темной вещи, как объяснение какой-либо загадки; и каждый план кажется, в частности, надлежащим и естественным в момент, когда о нем говорят и занимаются его осуществлением во всей его сложности. Тут оказываются приемлемыми всякие подвохи, в том числе и тот, о котором сказал я и который, пожалуй, ничуть не хуже других; тут [возможны] различные грани, разные стороны, которые нам показывают и которые нас обманывают, приковывая по привычке к какому-то одному смыслу. Нас принуждают их усвоить и не думать, что существует, быть может, тысяча других, совсем иных, которые не менее справедливы и разумны и разрешили бы ничуть не хуже наши сомнения и успокоили бы // наше встревоженное неведение. Словом, мы должны были бы прийти к совершенно иным результатам, чем к тем, к которым мы привыкли, ибо наше разумение — это всего лишь инстинкт, приученный к вероятным и с трудом постижимым предположениям, которые авторитет воспитания, общественного мнения и примера нас заставляет воспринимать не рассуждая и о которых нас учат мыслить соответствующим образом. Такое повторение одного и того же действия формирует в конце концов эту привычку мыслить и упрочивает упомянутую привычку, заставляющую нас рассуждать, почти так же, как нянька обучает нас говорить или ходить или // как охотник натаскивает собаку, обучая ее хитростям охоты, а сокола приучает искать в небесах добычу. Таково целое здание последствий, возводимое силой воспитания на [почве] предположений, которые мы беспрепятственно и без помех воспринимаем и к которым привыкли.
Все, что находится вне этого отношения и этого соглашения, все, что разрушает этот воспринятый план, все, что насилует эту привычку, поражает нас, удивляет, возмущает наше мнение и кажется нам неразумным. Наконец, только сила размышления и то, что направляет животных, наших собратий, могло бы нас возвратить к природе, // полностью извращенной гражданским обществом с целью подчинить нас своим законам.
Именно благодаря их наставлениям мы распознаем истинное добро и истинное зло: сохранение и небытие, которые они делают мотивом всех действий. Все наши хорошие и дурные наклонности, добродетель и порок суть всего лишь пружины этого цивилизованного себялюбия. Наши добродетели — это страсти, разрушенные другими, вредными страстями. Наши добродетели порочны и произрастают из дурного корня. Если себялюбие — порок, то все совершаемое [людьми], есть порок, все представляется слабостью и недостатками, превращаемыми гражданским обществом // в порок или добродетель, которые оно прославляет или покрывает позором, сообразуясь с их пользой для [общественного] договора и для выполнения всеобщего соглашения. Все, что мы видим наиболее прославленного и благородного, движимо постыдными мотивами и низменными и презренными помыслами. Темперамент — порок или добродетель в зависимости от того, направляет ли его себялюбие на благо обществу.
Нет религии, которая бы лучше утверждала этот договор, чем христианская: она как нельзя более приспособлена к нему. Взаимная помощь есть ее главный закон. Уступать — добродетель, мстить за себя — преступление, делать услуги врагу — заслуга, ненавидеть его — грех. Христианская религия устанавливает власть самодержцев // и повиновение народов, вплоть до любви к тирану и самопожертвования ради него*. Не следует, таким образом, удивляться, что она достигла распространения, которому ныне мы свидетели, ибо, хотя христианская церковь и разделена на различные секты, она царит ныне в свою очередь по всей земле, поскольку магометанская религия есть ее ветвь**. Ведь с религиями происходит то же, что и с другими вещами, которые следуют одна за другой в потоке времен и полностью исчезают. Новая религия всегда утверждается на основании прежней, которую она подправляет по своей прихоти и которой она лишь придает вид // новизны или, лучше сказать, омолаживает его, чтобы больше поразить [воображение].
* Рассуждения автора о свободе человеческой воли близки мнениям Спинозы и Гоббса (ср.: Гоббс, 1, 524 и далее; Спиноза, II, 479-480).
** В понимании политической роли религии автор близок к Спинозе (см. II, 9—10).
Хотя мы говорили обо всех этих религиях в целом, снизойдем в какой-то мере до деталей той религии, которая ныне господствует и в которой мы рождены. Этот торжественный поток, который несет свои воды с таким величием, — почти ничто у своих истоков: это Моисей, ускользнувший от преследований египтян, с сотней тысяч беглецов, которых нужно вести и наставлять в пустыне. Его возвышенный гений создает законы, чтобы избежать волнений и беспорядка. Ему нужно укрепить свою новую власть против // мятежей этого непокорного и грубого народа; необходимо установить порядок в этом скопище бродяг. Он принуждает их отдаться под его начало благодаря надежде, которую он им внушает, на то, что он выведет их в благословенную страну, которую он им красочно описывает. Он пользуется их доверчивостью для лестных предсказаний будущего и [проповеди] могущества некоего царя, который должен ими править, чтобы принудить их смиренно подчиняться его распоряжениям и утешить их в их повседневных бедах. Он дает им законы, которые он то ли позаимствовал и скопировал у египтян, у которых эти люди жили ранее, то ли // изобрел сам; это очень справедливые законы. Чтобы сообщить непоколебимую силу этому новому установлению и своей власти, он делает бога автором законов и сообщает их народу только в качестве их толкователя. Какое почитание, какое уважение, какое повиновение эта идея внушила народу! Ловкость, с которой Моисей помог народу в нужде благодаря либо своей политике, либо своему знанию природы, заставляет рассматривать его как служителя бога и повелителя природы. Все, что он делает, — чудо, он льстит людям очевидным покровительством этого бога, единственными избранниками которого они являются, бога, который неустанно следит за // ними, чтобы вознаградить их или наказать. Он наставляет людей относительно их происхождения от начала мира, что удовлетворяет их любопытство; он постоянно поражает их заботами, которые бог проявлял по отношению к их отцам, и тем предпочтением, которое он выказал им по сравнению со всеми другими народами, после того как ранее дал им общего отца Адама, родоначальника всех наций. Он дает им второго отца, Авраама, чтобы отличить их от всех наций. Он подтверждает обряд обрезания, который уже был введен ранее как знак отличия этой покровительствуемой богом семьи, и превращает его в религиозный акт, дабы принудить их к нему еще более. Чтобы // предохранить их от смешения с другими народами, которых они, как им казалось, значительно превосходили, он сообщает им крайне возвышенную идею бога, который сближается с ними, а [ранее] состоял, так сказать, в общении с их отцами. Это тот, кто есть, это — альфа и омега, это — начало и конец, он вовсе не имеет имени, это тот, кто воплощает в себе возмездие. Моисей сознавал, насколько общение с египтянами и пример их сделали его народ суеверным, насколько его религия огрубела из-за примитивности этого народа, ибо существует предположение, что всем народам была известна весьма возвышенная идея божества // и почти под [теми же] именами непостижимого, вечного, необъятного, всемогущего, творца всего, воздаятеля добра и зла, которые подразумевают общие качества, внушаемые нам здравым смыслом.
Все нации имели упомянутую основу религии, и, несмотря на различные отклонения, которые способны заставить народ забыть об этом, их мудрецы всегда ее хранили. Но досадно, что культ, учрежденный для почитания этого божества, заменил собой само божество: чувства жаждут предмета, который привлекает // их и успокаивает. И эти изображения, которые Моисей так строго запрещает своему народу, образы, которые были всего лишь воспоминаниями о божестве, имевшими целью помочь воображению помыслить неведомое ему существо, и которые возникли только так, как я уже говорил, — [эти] смутные и материальные идеи стали богами в силу невежества народа, который хочет материализовать божество либо в статуях, либо посредством церемоний, поражающих чувства и делающих божество как бы осязаемым и чувственным, ибо культ — это [своего рода] тело, которое формируют и почитают, чтобы оно видело и ощущало, как его любят. Не // думайте, что египтянин боготворил собаку или язычник — кусок дерева, они их рассматривали как память или даже как некое особое вместилище существа, которое существует повсюду и остается нерушимым и нетленным, несмотря на принижение его образа.
Нептун, Юпитер, Плутон и немало других [богов], которые были раньше, должны были охватывать только одно божество в различных его функциях, но народ сделал обозначение бога самим богом и принял портрет за лицо; это же имеется в виду, когда кальвинист упрекает католика по поводу почитания изображения // и причастия*.
* По-видимому, автор имеет в виду значительные заимствования из Библии, имеющиеся в Коране: там фигурируют многие библейские персонажи, от Адама до Христа.
Моисей заметил это извращение в религии египтян и то, что чувственный образ был для грубости и невежества народов опасной ступенью [на пути к тому, чтобы] забыть божество и почитать только видимый объект; [он заметил], что такой недостаток делал религию безумной, безрассудной, склонной к саморазрушению, поскольку даже гнет ее слишком слаб, чтобы остановить мыслящего человека и длиться вечно. Он хочет предохранить свою религию от всех этих несовершенств, чтобы сделать ее устойчивой и постоянной. Он устанавливает, стало быть, подобающую божеству идею, величие, высота, возвышенность и // непостижимость которой помогают верить благодаря удовольствию, получаемому от восхищения. Он отвергает все виды изображения людей и животных, даже в целях украшения, из опасения оставить западню людскому невежеству и суеверию. Чтобы дать чувству людей какой-то алтарь, который мог бы их привязать, не портя и не соблазняя их, он изобретает ковчег, который не может быть предметом обожествления, и говорит, что в нем присутствует особым образом верховное божество, которому лишь он и воздает почести. Этот ковчег привлекает почитание, не становясь его объектом; в ковчеге скрыт бог, и он его обозначает, предупреждая, что бог непостижим и неосязаем. Делая бога в каком-то // смысле осязаемым, ковчег представляет его чувствам, не создавая, однако, возможности принять знак за вещь, что следует избегать прежде всего. Этот ковчег, напротив, по своей природе сохраняет в неприкосновенности свое бытие знака и даже заставляет думать о некоей темной и невидимой вещи, о всем величии божества, которое он скрывает и которое нужно почитать: нет ничего более ловкого, более политичного, лучше изобретенного, ничего более пригодного для сохранения идеи этого чистого и высшего божества, несмотря на грубость чувств, которые нужно удовлетворить чем-нибудь. Моисей повелевает производить бесконечное число церемоний, он создает культ, полный высших внешних и чувственных деталей, число которых, разнообразие, порядок //
следования, устройство, великолепие и таинственность приятно поражают чувства, воображение и память, заставляют их воспринимать [все это] и мешают рассуждению благодаря [их] разнообразию, которое отягчает [ум] запоминанием их и [создает] сладость восхищения ими, не оставляющего людям досуга, необходимого, чтобы углубиться в них. Моисей заимствует у других религий, которые он знал, жертвоприношение, только изменив его; ведь представляется, что идея бога привела естественно и последовательно все нации к такому роду почитания бога, ибо жертвоприношение кажется даром, который приносят божеству. Это нечто такое, что предлагают божеству, чтобы позаботиться // [тем самым] о его любви, чтобы признать его творцом, автором, благодетелем, хозяином и сувереном, которому все принадлежит и от которого все получают, ибо, что бы ни уничтожали люди, [они делают это], дабы признать ничтожность всякого творения (вместе с которым люди сами уничтожаются перед лицом того, кто сам по себе все), чтобы прославить [бога] нашим унижением и возвысить его нашим смирением и уничтожением того, что ему подносят.
Моисей заимствовал также умерщвление плоти, присущее всем религиям: это [тоже] жертвоприношение, при котором отдают богу самого себя — не только тело, но и дух, угнетая тело. Это выражение покорности, признание уважения [к богу] посредством // страдания, признание, которое является правилом всяческого блага; лишь оно не влечет за собой никакого наказания и вовсе не заключает в себе вины. Это добровольное наказание [самого себя] за оскорбление бога, это признание того, что бог, мститель за преступления, существует, это свидетельство того, что он один благой, счастливый и совершенный, а [все] остальное — виновно, несчастно и неполноценно. Это унижение содеянного им самим [с тем], чтобы весь блеск [славы] принадлежал творцу; это боль творения, почетная для создателя, ради которого оно себя наказывает. Это добровольное страдание, подвергаясь которому творение отдает творцу свое удовольствие, свое здоровье, чтобы доказать, что оно отдает все, что может отдать.
Чтобы поставить свой род над другими, Моисей // доверяет ему выполнение жреческих обязанностей. дав ему возможность заняться множеством церемоний и поддерживать свое существование посредством великого числа жертвоприношений. Наконец, он дает своему роду лучшую должность в государстве, самую почетную, самую легкую и самую доходную. Он сочиняет книгу обо всем, что я вам только что рассказал, в которой представляет бога руководителем всех своих действий, без которого он не издал ни одного закона, будучи всего только его сотоварищем по управлению народом. И чтобы сохранить эту книгу навеки, он запирает ее в ковчег, это таинственное место, где пребывает бог. Это — самая древняя книга из всех книг. Она источник религии евреев, // и нашей, и всех тех, что царят ныне. Упомянутая книга рассказывает нам вещи, которым трудно поверить и которые превосходят наше понимание*.
* Подобную же критику Библии мы находим у Гоббса и особенно у Спинозы (ср. Гоббс, 2, 394 и далее; Спиноза, II, 476).
Сотворение мира и чудеса, выходящие за пределы здравого смысла, должны обладать авторитетом, чтобы заставить себя признать. Сколь ни невероятен рассказ об этом сотворении и о чудесах, произведенных во время исхода этого народа, я не знаю, возможны ли они или, скорее, насколько они невозможны, но сама эта возможность не является достаточной причиной того, чтобы я ее признал. Я не знаю также, мог ли Моисей, будучи искусным политиком, изобрести все упомянутые вещи ради установления своих законов и своей власти. Если бы // я и согласился, что эта книга в самом деле принадлежит ему, я все равно не мог бы знать, верно ли то, что он говорит: полагаете ли вы, что через шесть тысяч лет можно будет выяснить одну из наших историй?
Если нам стоит стольких трудов обнаружить хотя бы незначительное обстоятельство какого-либо события наших дней, которое не было искажено вследствие отношений между людьми, то откуда нам знать, буквально ли верили упомянутой книге при жизни Моисея? Не считали ли ее красивым сказанием, рассказом, который стал почитаем в результате советов и темноты, в которую время погружает вещи, и признан подлинным или достоверным // из-за невежества и суеверия народа [?]. Ведь все это возможно, и если немыслимо доказать, что это так, то и нельзя внушить нам убеждение, что это не так. И если [народ] верил во времена Моисея, как он верит ныне, кто знает, посредством каких ухищрений его убедили верить? И была ли эта вера доказательством истины? Что невозможного в том, чтобы заставить верить в чудесные и необычайные вещи примитивный народ? И способны ли невежественные люди с легкостью верить всему чудесному? Если поразмыслить, [становится ясно], какое слабое основание может иметь примитивное и простонародное, хотя и общее // мнение, с какой бы легкостью ни усваивал народ блестящее заблуждение! Какое очарование имеет в его глазах великолепная ложь, какой ловушкой является для его легковерия ослепительная фальшь? Мы можем распознать, есть ли его вера достаточная порука истины, следует ли хоть в малейшей мере доверять ей, должен ли мудрец следовать за толпой пусть даже в безразличных ему вещах, где к тому же не видно никакого противоречия, должно ли это отношение простонародья искушать нашу доверчивость и выводить нас из сомнений, в которых мы должны пребывать, особенно относительно вещей, которые нам в точности неизвестны? И кроме того, бывают ли // чудеса, в которые не мог бы заставить поверить человек, способный убедить людей в том, что бог говорил с ним? Не делает ли это общение с божеством его слова оракульскими изречениями, авторитет которых признают, несмотря на их темный смысл, смущающий нас?
Наконец, был ли Моисей единственным человеком, которому удалось внушить это мнение народу, без того, что все внушенное им было правдой? Разве Нума Помпилий* и Магомет не заставили верить [людей] в те же вещи, чтобы придать уважение их законам?
* Нума Помпилий — по преданию, второй после Ромула царь в Древнем Риме; с его именем связывается установление религиозных обрядов и жреческих коллегий.
Этот эффект, каким бы необычным он ни был, не нуждается в истине, чтобы утвердиться, ложь позволяет ему преуспеть. Если вы ссылаетесь Ц для доказательства миссии законодателя на чудеса, которые показывают, что он пользуется помощью и благосклонностью повелителя природы, сообщающего ему свою власть, то пусть мне докажут эти чудеса, которые он, по его словам, сотворил. Разве я должен верить ему на слово? Эти чудеса могут оказаться обманными, сказочными, плутовскими, и вера [в них] народов не имеет [тогда] ни малейшей силы. Заслуживают ли доверия чудеса св. Франциска, Павла *, превосходящие числом и совершенством чудеса Иисуса Христа, коль скоро они признаны всем католичеством и подтверждены рядом // свидетелей?
* Франциск Ассизский (1182—1226) — основатель нищенствующего ордена францисканцев. Вокруг его имени возникло множество легенд. По одной из них, у Франциска перед смертью на руках и ногах открылись язвы, и в них были видны гвозди, как у распятого Христа. Апостол Павел, согласно христианской традиции, в невероятно короткий срок обратил в христианство народы, жившие за пределами Палестины
Сколько язычников совершили подобные же чудеса? Разве не предсказывали они будущее так же, как пророки? Разве не умножали они съестные припасы? Не воскрешали мертвых? Не замедляли движение Солнца? Или, лучше сказать, не навязывали людям веру? Разве не существует авторов, которые писали об этом, чтобы заставить в это верить в будущем? Не было ли недостатка в ложных, или действительных, или вымышленных свидетелях, чтобы все [эти чудеса] подтвердить? Какие доводы мы имеем, наконец, которых не имели бы также и они и с помощью которых мы могли бы доказать, что наши чудеса истинны, а их ложны?
Все // люди могут ошибаться, и быть обманутыми, и иметь намерение обмануть. Не является ли дорогой лжи доверчивая и обманчивая традиция, благодаря которой мы все узнаем*? Не может ли быть ложно то, что переходит к нам благодаря общению людей от отца к сыну? Или, лучше сказать, может ли оно быть истинно?
* Здесь и ниже автор высказывается в духе так называемого исторического пирронизма, т. е. скептического отношения к событиям древности, описанным в сочинениях античных писателей и средневековых хронистов.
Имеется ли столь признанный факт, который человек воспринимал бы во всей его простоте от другого человека и передавал бы без искажений? И не должен ли рассказ, прошедший через множество рук, дойти до нас искаженным и совершенно отличным от того, чем он должен был быть, // если каждый человек, каждый год, каждый век, каждый переводчик будут добавлять и сокращать в нем что-либо? Любой факт может быть искажен и изменен с течением времени, ложный с самого начала и подделанный впоследствии. Мы не можем судить с уверенностью об истинности факта, когда мы воспринимаем его из уст другого человека; относится ли этот факт к нашему времени или нет, нам преподносят его неточно, и мы его передаем неверно. Свидетельство других людей всегда может быть ложным или обманным; обманутые или обманщики, мы будем обманывать других обманщиков: // все это ложь или иллюзия, плутовство или невежество — словом, фальшь и недостоверность во всем. И хотя бы я не мог доказать ложность и сказочный смысл какого-либо факта, когда никакое обстоятельство не возмутило бы мою доверчивость и я не видел бы никаких противоречий в этом факте, ложность его может быть мне неизвестна. Я не должен верить всему, что правдоподобно: одно только правдоподобие не должно иметь силы заставить меня склониться на чью-либо сторону; но достаточно знать, что какая-нибудь история прошла через уста людей, чтобы увериться в ее несомненном искажении. Сообщение людей — достаточно веское доказательство фальши. // Много сдержанности надо проявить, чтобы остаться хотя бы в нерешительности и не спорить с людьми, как только они начинают говорить, проявить это снисхождение, которым является непричастность к какой-либо стороне, это снисходительное [нежелание] быть за или против, эту благосклонность, которая состоит в том, что не выступают против людских мнений. Я полагаю, что достоверна ложность этого (людского) свидетельства и что оно наверняка ложно, и если вы достаточно уверены, чтобы избрать нерешительность, сомнение и неуверенность, то это не должно всегда свидетельствовать, что все возможно и что упомянутое свидетельство, хотя и ложное по обыкновению, может быть // иногда подлинным, в зависимости от случая, без того, чтобы мы могли узнать это. Предание — [это] отношение людей, их свидетельство — вот канал обманов, по которому все факты древности доходят до нас, и нам не могут привести лучших доводов, чтобы заставить нас верить, кроме того, что обратное доказать нельзя. Но я воздержусь от того, чтобы поверить в это, дабы спастись от бесполезного затруднения [при попытке] подтвердить истинность некоего факта, которую немыслимо обнаружить. Я пойду своей дорогой, не говоря ни слова. Таков суетный авторитет чудес // и всего, что заставляет нас в них верить! Мне скажут, что я верю, что существует Рим, хотя, однако, мне это известно только с чужих слов, но это факт, постоянно существующий в мире чувств. Тысяча людей, убежденных их чувствами, свидетельствует мне соответствующим сообщением, не зная друг друга, не имея интереса обмануть и не будучи сами, по-видимому, обмануты, что этот город существует. Это отличает [такой факт] от других фактов, имевших место в какой-то момент, от которых не остается никакого следа, помимо одного лишь легковерного или лживого, к тому же заинтересованного свидетеля, или // склонного или способного обмануть нас, обманывая тысячу других. Наконец, когда это свидетельство будет подобно тому, которое нас убеждает [в существовании] Рима, и нам ничего не будет стоить поверить этому, ни усилия, ни ослепления, можно ему поверить. Можно самим решить, с подобным ли случаем мы имеем дело в отношении Моисея и чудес, древних и прошедших, которые могут быть искажены, могут даже существовать только в мысли. Ссылаться на свидетелей для доказательства [их] — не значит ли это [ссылаться на] вымышленные, тщетно сотрясающие воздух имена людей, которые никогда не существовали, на [пустые] наименования: // на сотню людей, которых цитируют, как будто они существовали, к свидетельству которых взывают, опираясь на него и основываясь на нем как на реальной поддержке, эффективной помощи и подлинном авторитете? Наконец, хотя я не говорю, что Моисей политик и что его книга лжива, я останусь в неуверенности потому только, что все это возможно. Но помимо того, кто меня убедит, что после смерти Моисея [упомянутая] книга не была подменена и переделана, поскольку она была несколько раз утеряна и в ней говорится даже о смерти Моисея*?
* О судьбе книг Ветхого завета (о том, как они терялись, погибали в огне и снова записывались компиляторами) см. Гоббс, 2, 391 и далее; Спиноза, II, 117 и далее.
После этого первооснователя появилось множество знаменитых людей, которые // правили еврейским народом в духе Законодателя, и, так как взволнованное желание знать будущее беспокоило этот народ не менее, чем другие нации, в его среде время от времени появлялись пророки, которые, как говорят, имели общение с богом и которые пытались полностью уподобиться Моисею, увлекали народ пророков [идеей] покровительства бога и прихода могущественного царя, процветающего государства или наказания, [обещанием] мести и упреками преследователям и нарушителям закона, — язык, почти сходный с языком, которым подобало говорить с бежавшим народом, жившим в пустыне, народом, // которому желали дать закон, чтобы заставить его повиноваться и уважать [этот закон], что побуждало народ доверять пророкам и должным образом к ним относиться. Их стиль весьма соответствует стилю Моисея — взволнованный, загадочный, темный и удобный для любых толкований. Все, что они говорят посредством аллегорий, сравнений, парабол, метафор, применяется различным образом к приходу этого Царя, к их будущему могуществу, к наказанию нарушителей закона и к порицанию за преследования. Все это можно применить и к Иисусу Христу, и к Соломону, и к Давиду, и к тысяче других, // к которым мы захотели бы это приспособить. Приятность объяснения и свет, который, как кажется, проливают на темный объект, соблазняют нас и побуждают воспринять это объяснение. Упомянутая манера сказания применена умелой рукой к податливому и легко поддающемуся изменениям сюжету: она нравится нам и направляет наше суждение к вере в то, что отношение, [о котором идет речь], связывает вещи, тогда как оно существует лишь в умах, к вере в то, что отношение существует само по себе, тогда как мы его создали: это — чулок, который приходится мне впору и кажется созданным для меня; это — шляпа, которая приходится мне по мерке, // хотя меня и не имели в виду, когда ее делали. Это — одежда, которую я надеваю и которую случай сделал подходящей мне по росту. Этот загадочный стиль пророчеств можно также применить к нескольким еврейским царям. Можно облечь кого угодно в это общее и обычное платье, не сделанное ни для кого и для всех сразу, без того, чтобы что-либо иное, помимо случая, заставило его лучше подойти одному человеку, чем другому. Может быть, окажется, что оно менее подходит, менее приличествует Иисусу Христу, чем другим, если мы возьмемся изучать одно за другим все эти пророчества, которые применимы к [его] росту // лишь благодаря их гибкости и обобщенному смыслу, которые им сообщает их темнота. Но если этот наряд придется ему впору и будет явно и совершенно соответствовать ему одному, [чего нет на деле], то такое точное соответствие будет произвольным и чисто случайным. По крайней мере оно могло бы случиться, и ничто не может нам с уверенностью доказать, что это столь ясное, столь подробное, столь точно осуществленное в Иисусе Христе пророчество имело в виду его одного и относилось только к нему. Это, если угодно, нечто очень // сходное, скорее история, нежели предсказание, очень точное, но невольное соответствие. Но, наконец, если бы это соответствие стало реальным, перестало покоиться на фундаменте метафор, парабол, загадок и аллегорий, которые способствуют его установлению применительно к одному Иисусу Христу, если бы даже пророчества имели в виду Христа и осуществление их вовсе не было бы делом случая, и все это неясные и сомнительные предположения, которые я соглашаюсь на миг считать подлинными и достоверными, — каковы могли бы быть следствия этого? Кто может знать, откуда пришло это знание будущего, вдохновляет ли нас случай, // природа, бог или демон [?]. У язычников были пророчества, за которыми следовало их свершение. Христиане признают, что демон может предсказывать и что даже дурные люди могут иметь дар пророчества; они вынуждены были признать это потому, что их убедили факты, и потому, что люди хотели приписать случаю осуществление пророчеств, а это также могло бы разрушить и наши [пророчества]. А не может ли случиться, что демон — я // говорю и рассуждаю исходя из принципов, которыми пользуются против оракулов,— не может ли случиться, говорю я, что демон заставляет предсказывать будущего человека через будущие обстоятельства его жизни, с помощью которых доказывают исполнение предвиденного [?]. Следует ли говорить из-за этого, что такой-то предсказанный человек действительно добр и чудесен? Был ли [в самом деле] зол Навуходоносор*?
* Навуходоносор II (604—562 до н. э.) — царь вавилонский, в 587—586 гг. завоевал Иудею, разрушил Иерусалимский храм и переселил иудеев в Вавилонию (так называемое Вавилонское пленение).
Должно ли предсказание заставить нас думать о тысяче [других] благоприятных вещей? Или я должен верить лишь тому, что предсказано, не добавляя ничего? Я ошибаюсь, следует даже уменьшить веру в вещи, которые были предсказаны, когда нечто // предсказанное не сбылось, и отбросить все остальное как сомнительное. Когда главное предсказание относительно упомянутого человека совершается, [к нему] примешивают другие нечувственные вещи, в которые хотели бы заставить нас верить. Истинность предсказанного, доказанного и видимого факта не должна бы распространять нашу веру и на несвершившееся, нечувственное и невидимое. Напротив, мы могли бы подозревать, что достоверность свершения некоего факта — западня, предназначенная для того, чтобы мы могли впасть в ложь и обман. Мы могли бы опасаться, что [правдивая] часть предсказания предназначена для того, чтобы // прикрыть фальшь другой части, которая отнюдь не очевидна, что замысел этого пророческого духа заключался в попытке использовать нашу доверчивость, возникшую благодаря достоверности предсказанного факта, чтобы легче подтолкнуть ее к заблуждению и заслужить обманчивое доверие, наконец, чтобы возвести антихриста в божество, спрятать искусителя под покровом истины, завоевать ему уважение и снискать авторитет в глазах народа.
Но даже если все это не было создано из смеси истины и лжи, а было полностью истинно и ясно, не следовало бы думать об упомянутом человеке только то, что было в пророчестве, и ничего помимо этого. Бог может заставить // предсказать существование Соломона в пророчестве, в котором все его поступки будут отлично предусмотрены, в котором будут восхваляться, если о них следует говорить с пафосом, прибегая к метафорам и фигуральным выражениям, его добродетель, его ученость, мудрость, могущество, повиновение, без того, однако, чтобы мы были так уж обязаны верить, что все это делает его безгрешным. Его грех не предсказан и не делает пророчество ни ложным, ни менее божественным, несовершенство этого предсказанного человека ни в чем не уменьшает достоверность и совершенство предсказания. Таким образом, Иисус Христос может быть ясно и подлинно предсказан, не будучи богом, будучи непогрешимым и // безгрешным не более, чем Соломон; и о нем не следует думать более того, что о нем сказано*.
* Автор, следуя Спинозе (II, 630—646), не оспаривает историчности Христа, считая его простым пророком.
Какие бы выражения ни содержались в этих пророчествах, какие бы слова, следуя вашей фантазии, вы не сумели бы в них включить, чтобы доказать существование бога, как бы правдоподобен он ни был, когда он сам доказывает, что он бог, все это следует воспринимать только как метафорические выражения, в которых преувеличены его достоинства, — столь далеки они от здравого смысла и всякого правдоподобия, если воспринять их в буквальном смысле. Разуму и суждению столь же легко думать либо одно, либо другое: // то ли верить богу-человеку, то ли видеть только переносный смысл в этом выражении. Может быть, Иисус Христос говорил о себе только в переносном смысле, когда он объявил себя сыном бога; может быть, только время и ученики Христа истолковали это буквально, изгнав фигуральный смысл. Наконец, я признаю, что возникновение упомянутого мнения есть необычайное событие, которое, однако, не находится за пределами человеческого безумия. Увидев бога-змия, вполне можно поверить в бога-человека. Наконец, пророчество ни в коей мере не является доказательством того, что // Иисус Христос не является таким же человеком, как и другие, человеком, который может сам быть обманут или обмануть нас из хитрости; точно так же не являются таким доказательством и чудеса, которые доходят до нас только по преданию, ненадежность которого мы уже показали. Иисус Христос, который знал все пророчества, применил их к себе, как мог, а этот напыщенный и иносказательный язык, которым вели рассказ об освободителе, грядущем царе, о пленении, наказании, радости, наслаждении, которым пользовались еврейские писатели либо для того, чтобы удержать евреев в страхе, либо чтобы заставить их повиноваться с помощью [упоминаний о] сладостной // надежде или упреков в неблагодарности, и который соответствовал тогдашнему состоянию [общества], оказался подобающим смыслу, который придавал [своей жизни] Иисус Христос. Словом, пророчество — это хамелеон, который принимает цвет предлагаемого ему предмета*.
* Автор выступает против пророчеств, следуя Гоббсу (2, 391—394) и Спинозе (II, 32—47).
Быть может, Христос предвидел, что исправление злоупотреблений законами Моисея и критика фарисеев*, противодействие которым отбросило его
в противоположную партию, поставит его во главе новой религии, разрушавшей религию Моисея, которая послужила основой для его собственной. Эту последнюю апостолы учредили то-ли посредством заговора, то ли с помощью силы убеждения, // как обычно и создаются все новые религии.
* Фарисеи — секта, возникшая в Иудее в эллинистическую эпоху. Фарисеи развивали идеи о бессмертии души, придерживались традиционных обрядов и были непримиримо враждебны Риму. Слова автора о Христе и фарисеях являются цитатой из «Диалогов» Ванини
Подобно этому Магомет заложил основы своей религии, ибо под именем реформы и истолкования нас всегда заставляют принимать нововведения, которые шокировали бы нас без этого покрова; народ же часто меняет религию, сам того не сознавая, и ему подсовывают новую веру под старой [оболочкой]. Я предоставляю ученым спорить о том, были ли священные книги, которые являются источником всех наших религий или, скорее, сект христианства, после неоднократных утрат восстановлены во всей их чистоте; или // даже о том, не были ли они утеряны, а другие — подложены вместо них так, что это осталось нам неведомо; были ли они фальсифицированы, сделаны более пространными и искажены в различных переводах? Имеется ли диссертация, исследование, разъяснения, которые могли бы что-либо решить в этой области иначе как на ощупь и на свой страх и риск [?]. Наконец, как я уже сказал, все, что касается людей, все, что исходит от их свидетельств, обветшало, ложно и искажено.
Мудрость морали Иисуса Христа отнюдь не доказательство истинности его учения. Все новые установления имеют целью более // высокое благо, чем то, которое существует, с тем чтобы ослепить людей. Покорность и прощение врагов суть не что иное, как более совершенное подчинение обществу; они, как и другие законы, противоречат себялюбию, но вознаграждают [человека] и смягчают его надеждой и созерцанием некоего более значительного интереса. Наконец, христианство сходно со всеми другими религиями во всех своих деталях, как бы ни различал их разум: Евангелие, эта история, это краткое описание жизни и учения Иисуса Христа, все еще полно метафор // и парабол, и оно говорит [нам], подобно звону колоколов, все, что мы хотим, чтобы оно говорило; каждое [его] слово — объект совершенно различных и равно правдоподобных истолкований. Это поле, где нет проложенной дороги, и этот недостаток правил достаточно ясно показывает, насколько упомянутая книга способна подчинить и объединить своих приверженцев, и не является ли она также источником распрей, войны, споров и сект.
Иисус Христос говорит, что его религия непогрешима. Пусть, однако, сопоставят нынешнее христианство с // христианством времен Иисуса Христа и [тогда] с трудом распознают какое-либо соответствие [между ними]. [Это] уже другая религия. Властвующее повсюду время дало и ей почувствовать свою власть и сильно изменило ее, несмотря на предосторожности людей. Тысячи малозаметных изменений преобразили ее до неузнаваемости, и сам Иисус Христос признал бы это — так она изменилась и продолжает меняться с каждым днем. Неизвестно, где же эта предполагаемая непогрешимость, в той ли она книге, которая будет существовать вечно и которую любой желающий может невозбранно // толковать по своей прихоти? Содержится ли она в этой книге и в толковании, которое дает ей глава церкви, или она одновременно в этой книге и в объединенных разъяснениях главы церкви и церковных ассамблей, или только в толкованиях ассамблей без главы церкви? Говорят, что она в [разъяснениях] главы церкви, но неизвестно, кто же глава, один ли он и не равны ли они все. Дух святой невидим, он не дает себя чувствовать одним более, чем другим, и не мешает, чтобы интерес, жадность, себялюбие не произвели равным образом всех своих действий. Откуда нам известно, не является ли главенство города Бима единственным основанием первенства римского епископа и причиной наследования [Христу] Петра и его последователей, утверждающих, что эта // церковь непогрешима, а не каких-либо других апостолов? И не превыше ли преемник Павла, который более других трудился ради основания этой церкви, всех преемников Петра; и не имеет ли он права уличить их в грехах; наконец, не является ли непогрешимым все христианство, составляющее тело церкви, которое никогда не должно погибнуть? Все это — вопросы, которые невозможно разрешить.
Эта книга, неясный смысл которой мы хотим установить и значение которой пытаемся определить, порождает // миллион книг с [ее] истолкованиями, в свою очередь являющихся объектом сомнительных истолкований, и так далее до бесконечности; и наш разум столь двойствен, что одни и те же слова, одни и те же цитаты, одни и те же примечания и толкования одинаково используются несколькими противоположными партиями, которые находят средство равным образом обратить их в свою пользу. Это нагромождение толкований гнетет нас, затрудняет и ввергает в глубочайшую тьму, в которой мы и пребываем. Желая нас просветить, нас ослепляют, желая нас наставить, нас уводят в сторону: вся эта традиция отцов [церкви] // одинаково полезна и благотворна [для всех] так же, как толкования, и приспосабливается к любому смыслу. Непредупрежденному человеку совершенно невозможно сделать выбор, выясняя истину, которая стала недостижима из-за такого количества накопленного хлама, равно как и из-за параболического и метафорического стиля истории об Иисусе Христе.
Неизвестно [даже], нужно ли встать на чью-либо сторону, не все ли они в равной степени хороши, не вынуждает ли их лишь интерес или тщеславие доказывать, что только их партия хороша, тогда как все остальные порочны, отвратительны и прокляты. Ибо в // спорах ведь чернят друг друга; часто бьются лишь из-за слов; зачастую придерживаются одного мнения, не понимая этого и даже прилагая усилия, чтобы отдалиться друг от друга; когда на деле царит единство, приписывают своему противнику тысячу взглядов, которых он вовсе не имеет; создают себе призрак, чтобы успешно сразиться с ним и присвоить себе славу легкой и воображаемой победы. Эта теология, которая должна была бы привести спорящих к согласию, служит для того только, чтобы всех их снабжать уловками, помогающими увертываться от стрел и защищать свое мнение, каким бы оно ни было. Удивительно, наконец, что столько гениев, // возвышающихся над общим уровнем, имели дерзость встать на чью-либо сторону среди стольких различных партий и привязаться к ней добросовестно и искренне, ибо во всех партиях есть хорошие и дурные, доверчивые и недоверчивые умы, одни из которых последовательно защищают свое дело, будучи уверены в том, что оно справедливо, а другие поддерживают их, [хотя и убеждены в его недостоверности], только потому, что они усвоили [определенное мнение] от рождения и их побуждает к его защите честь и интерес, — эти общие мотивы, свойственные как убежденным, так и неубежденным людям. Если добросовестный ум искренне верит и не распознает хрупкости // доводов, которые он выдвигает против своих противников, [которые] ему противостоят, — это несомненно значит, что труд изучения вещей отнимает у него, занятого выяснением того, во что он должен верить и что обязан защищать, досуг размышлять над ними. Он не может подняться до того, чтобы выяснить, должен ли он [вообще] верить в это и защищать [то, во что он верит], его дух притупляется познанием смысла какого-нибудь места в тексте и не имеет более силы проникнуть [вглубь]. Его память работает единственно, чтобы запомнить, что было сказано, и мешает его суждению выяснить, резонно ли высказывать угнетающе большое число следствий из предположений и распознать ложность [этих предположений]. Наконец, наука // сама мешает познанию; именно трудность запоминания не дает что-либо знать, ибо само по себе ученое существо не способно без размышлений [эту науку] переварить, мы учены только наукой других людей. Наша память знает много, а наш ум — ничего. Существуют люди, ученость которых — невежественное знание, они наполнены, но не накормлены! [Знание] без рассуждений — это вздутость больного водянкой, болезненная опухоль, а не полнота тела здорового человека. Часто у человека, поглощенного вещами, которые нужно заучить, не хватает времени подумать над ними, и в результате люди становятся весьма учеными глупцами; изучение должно // иметь единственной целью дать ученым суждение и память. Такова причина ослепления многих хороших умов, искренне преданных своему делу. Часто к тому же ученье заставляет их пристрастно относиться к тому, что они заучивают; [они поступают] как адвокат, у которого заработок и усердие в защите дела, показавшегося ему сначала сомнительным, извращают суждение, заставляя находить дело справедливым. Они убеждают сами себя, желая убедить других; они уверяют самих себя в солидности своих доводов, желая добиться признания их солидности другими. Желание вовлечь других в свою партию вовлекает их // самих в нее; они делаются жертвой собственных усилий и побивают сами себя, так что это ученье, эта наука, эти диспуты делают их все более пристрастными, увлекающимися, все более уверенными [в себе], все более привязанными к делу, которое они защищают, и подходящими для него. Для них становится все более обидным лишиться того, чему их учили всю жизнь: они не хотят терять свои доходы, труды и славу, которые исчезли бы при первом же луче рассуждения. Наш интерес и наше сердце, которые почти всегда руководят нашим суждением, заставляют нас закрывать глаза на столь досадный свет, который мог бы // заставить нас с горечью признать суетность нашей славы, нашей науки, наших трудов и лишить нас сладостных иллюзий. Наконец, нет ничего более крайнего, чем безумства и слабости самого великого человека и самого совершенного в мире гения. Никакие заблуждения, никакие мнения, никакие нелепости и фантазии не поднимаются выше, и ничто не может нас отвратить [от них]. В этом и заключаются границы, пределы, природа, полет и способность человеческого разума. Его предполагаемое совершенство обнаруживается лишь при сравнении [гения] с другими людьми и по отношению к ним, еще более слабым и безрассудным.
Но если, наконец, // разум ненадежен, если бог недостоверен, если вечность мира неявна, если бессмертие души недоказуемо, если неопределенна вся природа, если неочевидны порок и добродетель, слава и честь; если книга Моисея недостоверна, пророчества неясны, Иисус Христос недостоверен, чудеса недостоверны, церковь неопределенна, вождь ненадежен, непогрешимость неочевидна, предание неубедительно, свидетельство людей недостоверно, неправдоподобно и сказочно, [т. е. недостоверны] все вещи, образующие главную и общую пружину // действий людей и их общества; если, наконец, все есть невежество, темнота, недостоверность, сомнения, ошибки, заблуждения, мнения, предположения, — что же тогда делать? Сомневайтесь, не ведайте, не знайте ничего, не рассуждайте ни о чем или рассуждайте, ничего не определяя, ничего не решая.
Если все, говорит Паскаль, в равной мере сомнительно, станьте на ту сторону, которая всего выгоднее и связана с наименьшим риском; но если все одинаково сомнительно, значит, нет наиболее выгодной партии, все вокруг одинаково рискованно, равным образом чем-то грозит и одинаково ошибочно*.
* Речь идет о мысли Паскаля: лучше верить, что бог существует, тогда у человека нет риска загробного наказания (см. В. Паскаль. Мысли. М., 1905, стр. 120—129).
Если католическая религия вымышлена, то все ее преимущества выдуманы // и стоят не больше, чем нерешительность. Точно так же может статься, что каждая партия окажется единственно истинной; признаю, все возможно, наш разум вовсе не определяет меру понимания. Совсем неверно, что мы подвергаемся риску, которым одна партия угрожает либо позволяет себе угрожать другой, и что мы должны ждать блага, которое обещано или может быть обещано. Ибо этот рай и этот ад являются благом и злом, на которые каждая партия вольна претендовать, чтобы подкрепить себя и разрушить другие. Они, следовательно, одинаково истинны и одинаково ложны, одинаково возможны, их одинаково можно // ждать, одинаково можно опасаться, они в равной степени надуманны и сомнительны и в равной степени убедительны. Вы скажете, я не вдохновляю никого на то, чтобы сделать выбор; но я не могу сделать его, не подвергая себя возможному риску, которым другим заблагорассудилось мне угрожать, и не отказываюсь от возможных благ, которые они соблаговолили мне обещать? Каковы же те преимущества, которые им взбрело в голову мне пообещать, в то время как другие партии тоже вольны были мне угрожать противоположным? Не суть ли эти блага и это зло пустые // обещания и угрозы? Если бы христианин ничего не обещал, у него не было бы также никакого преимущества, [а были бы] равные со всеми доводы. Достижения и потери при этом пари равны, риск со всех сторон для всех одинаков, потому что все ставки здесь — фантазии, обещания или угрозы — одинаково ложны, равно возможны и не имеют большей ценности, чем все, что в них вкладывают и что могут вложить, причем это ничего не будет стоить, поскольку, собственно, нет ничего ни с той, ни с другой стороны.
Вы напрасно говорите, что вкладываете в игру больше, чем я //. Не могу же я вкладывать в нее несбыточные обещания, как вы. Я не ставлю в споре ни на что, если бьюсь об заклад, но я теряю много, если теряю. [Впрочем], мы оба не можем что-нибудь потерять или приобрести, поскольку в [этом] споре ставки эфемерны, или мы можем равным образом потерять или приобрести. Если в споре есть что-либо: обманчивая тонкость, соблазнительное сравнение, примененное к крайне абстрактной материи, не будем отделять спор от самого заклада, ибо блаженство есть сам заклад, рай — это предмет спора о том, существует он или нет. Скажем же: я могу ошибаться или нет, вы можете ошибаться или нет, мы можем оба обмануться — все это подлинно или ложно или одинаково опасно. Кто сказал нам, // что в позиции нерешительности мы ничего не теряем? Она обещает все и не обещает ничего, она, как и все остальные, во власти добра и зла, которые она может обещать или которых она может заставить бояться. И у нее есть ад, в котором будут наказаны магометане или христиане за то, что они имели дерзость выйти из состояния неведения и неуверенности, в котором природа создала нас, за то, что они преступили естественную грань, не следовали лишь свету здравого смысла, не покорились, не согласились оставаться в сомнении, в каком было желательно, чтобы мы пребывали, наконец, за то, что они сделали выбор, который нам был запрещен. Ибо разве не кажется, что природа создала всякие // препятствия для [достижения] достоверности, окутав всех нас мраком, и желание его осветить и обрести большее совершенство, чем она нам отпустила, — преступление, а блуждание в ночи и поиски света и силы, которой мы не имеем, — достойная наказания дерзость. Наконец, избрав свою позицию, которую все мешает нам определить, мы будем наказаны или вознаграждены за проступок или за уважение к законам [природы].
Если магометанин или кто-либо другой угрожает мне своим адом, у меня еще больше права угрожать ему тем же, и я нахожу, что напрасно признавал, будто // все мы в равной мере можем потерять или приобрести, ибо, хотя все возможно и все недостоверно, у меня, не правда ли, есть [большая] вероятность оказаться в самом разумном положении, несмотря на опасность ошибиться и попасть в беду, которой мне грозят. Разве я не должен уверить себя, что, почтительно оставаясь в невежестве, на которое я осужден, я не могу поступить лучше и что я совсем не должен быть [при этом] преступником? Я предпочитаю находиться в состоянии нерешительности, нежели в заблуждении. Наконец, виноват ли я, что не имею большей широты ума и большей проницательности, большей силы и большего совершенства? Разве преступление // не иметь более ясного ума, лучшего зрения и смириться со своим состоянием? Кроме того, моя нерешительность отнюдь не [какая-нибудь] точка зрения, а подготовка к [тому, чтобы занять] любую точку зрения.
Я не уверен в самой своей неуверенности, во всей твердости моего сомнения в том, что я нахожусь в состоянии нерешительности и слабости и что моя нерешительность есть верная позиция. Это всего лишь простая склонность и нескрываемая жажда неведомой истины. Кто бы при этом ни был прав, я буду за него, какое бы мнение ни было истинным, какой бы бог ни был истинным, я его не отвергну, я буду служить ему и почитать его в моем сомнении, я буду любить его всем сердцем. Чего же мне бояться // от христианина, еврея, магометанина либо язычника? Ведь я служу богу, которому служат и они, и я в целом принадлежу к тому же учению, что и они, ибо моя нерешительность вовсе не мертвая отрешенность, она живая и пламенная, жаждущая истины и, наконец, благонамеренная, чего достаточно, чтобы соединиться с любой возможной религией, которая окажется правильной, причем обнаружится, что скрывалась за моей неуверенностью не только возможность подлинной религии, но религия уже сформированная и полная — намерение, которое может сообщить достоинство истины и восполнить невольный пробел, послушание всему, что окажется истинным, свобода любых впечатлений, // наконец, неопределенная вера, которая идет и желает своего предмета с уважением и искренностью.
Мне, следовательно, нечего бояться угроз какой-либо партии, я могу притязать на все обещанное ими, а сам не рискую ничем. Кроме того, если я соглашусь [с кем либо] — ибо мое преимущество в том, что я [сам] избираю позицию и доверяюсь чьему-либо мнению — какая в том вина? Противоречит ли такое убеждение моему суждению? Это доказывает мне мой интерес, но не истину, а моя выгода вовсе не доказательство моего мнения. Разве может быть правилом для суждения об истинности какого-либо мнения мера выгод, которые оно мне обещает [?] В состоянии ли я верить в то, во что я не верю? Может ли // польза чего-либо для меня склонить мои убеждения к тому, в чем я вовсе не убежден? И может ли быть принята моим суждением выгодная нелепость? Таким образом, от меня не зависит, буду ли я верить во что я хочу, я не могу повелевать моими убеждениями, и я возмутился бы против самого себя, если бы захотел себя к этому принудить. Я выдержал бы спор и гражданскую войну, мой разум признал бы только силу доказательств и презрел бы значение моего интереса. Разум воспринял бы с сожалением неприятную истину, не будучи в состоянии отвергнуть ее, и увидел бы, несмотря на нее, свет, который бы умертвил все мои желания. Я не менее был бы убежден Ц верованием, которое привело бы меня к несчастию: мое сердце склонялось бы на одну сторону, мой ум — на другую. Мое убеждение было бы совершенно иным, нежели мои желания, и этот соблазнительный довод, касающийся моего интереса, льстя моим пожеланиям, полностью предоставил бы, [однако], мое суждение доказанной истине; словом, я не могу, я не должен верить полезному мнению. К тому же верование и вера, которых требует христианин, — это дар, от нас не зависящий, и, следовательно, его нельзя требовать. Вера, которую нам дают человеческие средства, отнюдь не совершенна. Нужно, чтобы снизошло свыше чрезвычайное наитие, которое не распознает ни голоса чувств, ни рассуждения, что выше наших сил. Я вовсе // не виноват, что лишен [такого наития], если по крайней мере мне не вменять в вину слабости и несовершенства, на которые меня обрекла природа. Наконец, говоря языком христианина, я жду этого наития и этого божественного вдохновения с наивысшим послушанием. Я жажду этой веры в бога, которую вы считаете необходимой и независимой от моих желаний и усилий, так как вера, которая исходила бы от меня, а не от бога, не была бы хороша. Самое большее, я бы смог заставить повиноваться мой внутренний [мир] установленному культу, подчинить все мои действия законам религии, без того, чтобы мой ум и суждение признали мою власть и уступили моим приказам. Я мог бы быть верующим без всякого // убеждения разума. Это [было бы] уважение, которое справедливо оказывать обществу. Нужно по крайней мере ему воздать то внешнее, которое зависит от нас и от него, если мы оставляем себе внутреннее, принадлежащее нам одним. Ибо нельзя в конце концов насиловать ум и сердце; хотя язык принуждают говорить на каком-либо наречии, а тело пребывать в каком-то положении, нельзя приневолить ум и сердце мыслить. Эти тайные движения выше тирании законов, они ускользают из-под власти государей, не подчиняясь никаким другим властям, кроме их собственной власти, и самодержавны в своем [отечестве], даже независимы от нас самих и отвергают нашу власть. Наконец, суждения и любовь свободны, не знают цепей и темниц и не сдаются в плен. Я могу только то, что я могу. //
Какое правило, какое поведение изберу я в этом общем состоянии нерешительности, которое я принимаю? Буду ли упрямо противоречить всему, что установили люди? Разрушу ли этот гражданский порядок, основания которого мне известны? Буду ли я считаться только со своим интересом и себялюбием? Отдамся ли я целиком своим чувствам? Будут ли моими законами одни только мои желания? И хотя я подозреваю, что добродетель и порок — плоды предрассудка, который содействует обществу, не буду ли я испытывать любовь к одному и ужас перед другими? Не будет ли для меня других границ, кроме моей пользы? И иных мотивов моих действий, кроме выгоды? И других правил поведения, кроме моих преимуществ? Предамся ли я, наконец, преступлениям, подлостям, // последую ли за своими наклонностями*?
* Со слов «Другим властям...» начинается Геттингенская рукопись «Бича веры» (Cod. theol. 260). Она написана на 73 страницах и совпадает с заключительной частью публикуемого трактата.
Отрывок, начинающийся словами «Наконец, суждения и любовь свободны...» (стр. рук. 263) и кончающийся словами «своими наклонностями» (стр. рук. 265), был напечатан в 1747 г. И. Фогтом.
Не буду ли я иметь ни чести, ни совести? Буду ли я лишен веры, порядочности, искренности? Стану ли пользоваться ложью столь же безразлично, как и правдой? Можно ли мне будет выбирать, быть ли жестоким, бесчеловечным, несправедливым? Буду ли я таким же своевольным, вероломным и гнусным, как и добрым, и искренним, и порядочным человеком? Нет, именно дойдя до этого пункта, я хорошо сознаю, с какой необходимостью была учреждена религия и сколь полезна узда для наших предрассудков. Так как моя нерешительность отнюдь не есть ни нерелигиозность, ни неверие, ни безбожие, а, напротив, это неопределенная, взволнованная, почти во всем послушная всему, готовая [воспринять] истину, словом, благорасположенная доверчивость, она может управлять моим поведением и ограничивать мое себялюбие // боязнью сомнения, боязливой, скромной и благонамеренной неуверенностью, которая совсем не отпускает поводья моим желаниям, не давая мне ни в коей мере безудержной свободы и не снимая ярма с моих наклонностей. У меня есть вызывающий сомнения бог, которого я почитаю и страшусь, вызывающий сомнения ад, которого мне надо избежать, сомнительная надежда на бессмертие, сомнительный порок, от которого мне надо уклониться, сомнительная добродетель, которой мне надо следовать; моя нерешительность — это общая религия, которая может мне служить разумной уздой и направлять мои действия в соответствии с обычными правилами общества. Это вовсе не беззастенчивая, дерзкая, грубая, нечестивая уверенность, свойственная атеисту, который позволяет себе все, что хочет, рассчитывая на [смерть как] безусловное // уничтожение. Это разумное и осторожное беспокойство, которое боится много себе позволить, которое, наконец, любит истину и неведомое благо и имеет в виду тяготы, награды и неопределенную вечность. Это моя тяга к неизвестной, темной и неясной истине удерживает меня без страха над пропастями, которые меня окружают. Наконец, я считаю себя обязанным соблюдать, несмотря на их недостоверность, обычаи, с которыми я столкнулся, и следовать религии, которую я сейчас исповедую из-за одного того соображения, что я сопричастен им и могу ошибиться еще сильнее, изменив свое положение. Это разумное беспокойство не оставит меня без опасений даже при выполнении действий, в которых я буду следовать установленным // правилам, и с еще большим основанием, когда я отдалюсь от них. Одно лишь уважение к толпе подчинит себе мои внешние действия вплоть до того, что заставит повиноваться всем законам толпы, хотя я и сознаю их недостоверность. Когда мое состояние нерешительности не оставит ничего такого, что бы пугало меня, я буду жертвенно служить красоте гражданского порядка и посвящу свои действия пользе всеобщего договора общества. Я буду благодетельным, добродетельным, искренним, справедливым, признательным чистосердечно, ради согласия, ради осторожности, ради самой моей неуверенности, если не ради веры и убеждения. Я буду сдержанным, умеренным, очень робким, не пытающимся уклониться с проторенной // дороги, хотя и убежденным на опыте в нелепости людей и ложности их предрассудков, в их преклонении перед любыми мнениями, в их обидчивости, в ложности их впечатлений всякого рода.
И вот мера нашего [разумения] и все возможное, что я не могу себе представить, делает меня подозрительным, скрытным и несмелым в попытках предпринять что-либо новое, и я, не испытывая уверенности, замыкаюсь в рамках общих правил. Эта осторожность возвращает меня к обычному ходу вещей, но я не ограничиваюсь им. Я жертвую интересами моего самолюбия, моей пользой и моим удовольствием ради неопределенного предвидения, ради того, что может быть. Я вооружаюсь против различных возможностей. Я рассматриваю этот // поток как извинение [моей нерешительности] и число [возможных последствий] — как [ее] оправдание. Я принимаю меры предосторожности против любого возможного риска благодаря отдыху и неподвижности, благодаря не связывающему [меня], непостоянному и не дающему уверенности в том состоянии, в котором я нахожусь, конформизму благодаря непостоянству и банальности чувств и наклонностей, благодаря неопределенности духа и сердца и опасливому, послушному, слепому, нерешительному, лишенному страсти и разума осуществлению того, что [уже] установлено. Я обеспечу себе это сомнительное блаженство, которое может настать благодаря моей осторожной умеренности. Я буду следовать религии, законам и предрассудкам без привязанности, без уверенности, без // убеждения, на всякий случай, ради неведомого «может быть», ради того, чтобы быть заодно с другими людьми, следовать их примеру, хотя бы мне и возражали, что я отхожу от природы, которой я намеревался следовать, и, что если бы я посоветовался с животными, нашими собратьями, я бы вел себя иначе, ибо чувства не дали мне никакой уверенности [в существовании] опасности, которой я должен страшиться.
Почему же я рассуждаю о сомнительном предположении? Почему не игнорировать полностью все то, о чем чувства не дают нам никакого знания, и почему не действовать, как если бы ничего [такого] не было, как если бы ничто [такое] не достигало наших ушей? Разве не двусмысленные и легковесные слова заставляют меня ежеминутно отвергать ложный свет, который я считал истинным, ради другого, ложного // света, который обманывает меня в свою очередь; меня заставляют покидать принятую мною точку зрения из-за кажущейся достоверности, дабы поддаться соблазну другой столь же кажущейся достоверности, игрушкой которой я оказываюсь; отнимают у моего суждения мнение, которое принималось им со всей силой, со всей верой, отнимают, используя обманные чары другого мнения, принимаемого с не меньшей верой, после чего эта гонка продолжается до бесконечности, захватывает меня и водит от одной фальши к другой в поисках неведомой истины. Однако указанные выше опасения суть справедливое следствие состояния неопределенности, в которое ввергла меня природа. Таков природный свет, который еще озаряет меня, и покорность, которую я проявляю по отношению к предрассудку, не нарушает моего // состояния нерешительности. Ио если я буду действовать как бы в совершенном неведении, не рассуждая попусту о недостоверном, наши наклонности и наши желания не будут, надо полагать, в таком состоянии ни необходимым аргументом, ни достаточно значительным побуждением, заставляющим нас действовать по своей прихоти, — раз все одинаково сомнительно, привлекательность удовольствия нынешнего дня совсем не должна руководить мной в моем состоянии нерешительности.
Предпочтение общественной пользы моей собственной совсем не противоречит [моей] природе, поскольку общественная польза есть моя собственная польза. Мой подлинный интерес и мое сохранение требуют, чтобы посредством моего примера и // моего поведения я поддерживал этот общественный порядок, которому мы время от времени обязываемся повиноваться, что я отношу к предрассудкам. Оскорбите в чем-либо мое себялюбие, данное мне природой для самосохранения, она его вознаградит в [чем-либо] другом. Добродетели людей отнюдь не противоречат нашей склонности, все они отражают наше себялюбие; таковы жалость, равенство, признательность.
Именно себялюбие лежит в самой основе этих добродетелей, поддерживает их и делает для пас легкими и естественными. Не означает ли даже оскорбление этого интереса, вдохновленного природой, нарушения законов, отклонение от которых ведет к наказаниям и // бесчестию: ведь когда все нам будет дозволено, люди не станут, надо думать, оставлять безнаказанными дерзкие побуждения нашего себялюбия. Следовательно, в наших интересах приноровиться к [людским] правилам вопреки нашему желанию. Повиновение им — это результат действия себялюбия. Зло, которое угрожает нашему неповиновению (людская хула, ненависть), [так же как] одобрение, похвалы, уважение, совсем не следует презирать, поскольку они полезны или вредны для нашего сохранения и могут либо удалить нас от страдания, либо приблизить к нему, даже если бы они не давали нам ничего, // кроме суетного удовольствия или напрасного горя, которое мы привыкли испытывать из-за людского презрения или похвал. Удовольствие, которое вознаграждает нас за то, чего мы лишаем себя ради того, чтобы нравиться людям, [есть не что иное, как] замена и возмещение, которое дают нам за то, что мы отдаем, ибо добродетели людей несут свои удовольствия, как и свои огорчения, а их пороки — свои тяготы, как и свои наслаждения. Часто их добродетель менее тягостна, менее трудна, не столь труднодостижима, как их порок, а их порок менее приятен, менее полезен, более труден, чем добродетель. Предоставим же [людям] завлекать и обманывать нас ради // нашего счастья; будем всегда вкушать сладостное заблуждение, которым они нас обманывают; оживим наши чувства, чтобы ощущать пустую славу, которую они нам дают за повиновение им; отточим наш вкус, чтобы вкусить сладость пустых угощений, которые они нам предлагают, удовольствий, [а также] возникших из фантастического источника и при всем том реальных, произведенных какой-то воображаемой причиной, но действительно приятных, порожденных неким ложным принципом, но [все же] подлинных радостей. Наконец, преимущество, интерес, польза, удовольствие, наслаждение, которые предоставляют нам за то, что мы признали [пользу общества], не менее чувственны, не менее живы, не менее // почетны и столь же суетны, мимолетны, непостоянны, хрупки, словом, подобны тому, что мы отвергли: все это преходяще. Наслаждение, бесчувственность, горе станут в один прекрасный день равносильными. Время все дает и все равным образом уничтожает в конце жизненного пути. Не остается никаких преимуществ, никакого привкуса прошедшего удовольствия или зла, никаких следов счастья или горя. Тот, кто смеялся, имеет не более преимуществ, чем тот, кто плакал, [ничто] нельзя удержать, все есть небытие, различное в беге времени, равное в конце. Будучи убедительным утешением несчастного человека, все эти доводы не // должны, [однако], иметь никакой силы для того, чтобы регулировать наше верование, которое не получает никакого подтверждения своей полезности и отнюдь не укрепляется благодаря получаемым нами преимуществам; но для руководства нашими внешними действиями [нужно] убеждение, исходящее извне, а не убеждение, исходящее изнутри (которое возникает благодаря уверенности в сомнительном бессмертии), [т. е. убеждение] в красоте гражданского порядка, [заинтересованности] моего себялюбия, в общественном интересе, который, в частности, касается и меня, в силе предрассудков, в необходимости, которую люди мне навязывают, в муках, которыми они мне угрожают за усладу губительного иногда порока, и в тяготах сладостной добродетели. Наконец, после того как пройдет непродолжительный срок — несколько лет //, быстрое истечение которых завершится равным для всех концом, наихудшее сведется к утрате некоторых слабых удовольствий, нескольких минутных утех. Во всяком случае риск сводится к нескольким ограниченным и простым наслаждениям чувства, и притом в течение времени, которое ощущается только до известного момента и замыкает нас в очень ограниченном пространстве.
Настоящий ум мало уважает все, что конечно, и все, что кончено. А кроме того, интересом жертвуют ради более значительного интереса, а благо отдают за другое благо, что значит ничего не терять и ничем не рисковать. Это усилие, // следовательно, не столь уж велико, зато полезно и необходимо, и моя жертва малосущественна. Наконец, восхищаясь столькими непонятными вещами, я буду почитать в моей нерешительности неизвестное, смутное и неопределенное нечто.
В толпе я буду стоять в стороне, выше предрассудка, я буду повиноваться, буду с чувством безразличия искать презренного уважения людей, я буду чувствителен к их суетным суждениям, я буду бесстрастно любить их добродетели, равнодушно ненавидеть их пороки, я буду восхвалять и порицать без любви и без ненависти, соглашусь со всеми их мнениями, без рвения буду следовать их законам, без почтения буду уважать их // обычаи, подчинюсь без покорности предрассудкам, возьмусь рассуждать бездумно об их предположениях; безразличный и бесчувственный, я буду все для каждого и ничто для всех; ничему не противореча и ничего не одобряя, начну все оправдывать и всему противоречить; ничего не принимая и не отвергая, буду все принимать и все отвергать; всему веря и не веря ничему, отметая все и не отбрасывая ничего, обо всем рассуждая без рассуждений, сомневаясь во всем, зная все, не ведая ничего, не подозревая о своем невежестве, все понимая и не понимая, все постигая и не постигая ничего, всему доверяя // и не доверяя ничему, чувствительный ко всему, не согласный ни с чем и со всем, без религии, но без неверия, без пороков, но и без добродетелей; непокорный, но и несвоевольный, мятежник без мятежа, покорившийся без покорности; принадлежащий народу и не принадлежащий к нему, простолюдин и не простолюдин; лишенный уверенности, но без неуверенности; без порядка и без беспорядка, с правилами и без правил; будучи противоречивым и неопределенным, каким меня создала природа, я буду спокоен в моем состоянии нерешительности, я буду терпеливо пребывать в неведении, я буду терпеть мои потемки и несчастья кротко и безропотно, я привыкну к ним, я не буду // судить о вещах по простым отношениям или сходствам, я буду безмятежно ждать непостижимого изменения моего существа, я не причиню себе гнетущего реального и бесполезного зла из-за сомнительного, неведомого и воображаемого грядущего зла, которое мне не следует знать; я ничуть не огорчусь из-за смерти, которой я не могу избежать, я проживу мои дни, избегая горестей, любя удовольствия, буду жить без претензий, стану избегать всех губительных, тягостных, болезненных наслаждений.
Я никогда не буду предаваться им выше меры, // за которой они перестают быть удовольствиями, и пределов, которые нам предписала природа, опасаясь слишком сильного волнения и чрезмерно безжизненного и печального отдыха. Мои занятия будут забавой; легкие, умеренные, [они будут предназначены] для того, чтобы избавить меня от преследующей меня скуки; я создам себе веселое, лишенное скуки, беспечное спокойствие и мягкое, неназойливое удовольствие. Я буду вкушать сладость не чуждого занятости и разнообразного покоя, я буду держаться золотой середины среди волнений и отдыха. Я стану избегать себя, не слишком от себя убегая, я отдалюсь от самого себя, не отдаляясь чрезмерно, буду избегать // всех крайностей, буду наслаждаться праздностью без вялости и изберу неволнующие развлечения, досуг мой будет полон жизни и движения, а жизнь не окажется ни беспокойной, ни мрачной, разнообразие — не запутанным, перемены — не внезапными, они создадут для моего сердца вечно ровную обстановку и не заставят вдруг пускаться в развлечения и впадать в тоску, но поведут меня по отлогому склону отдыха к развлечениям, а от развлечения — к отдыху, не так как у большинства других людей, которые переходят от одного к другому рывком и отдаются всему, что они чувствуют. // Я предпочту непрерывное безмятежное счастье избытку наслаждений, которые оглушают чувства, переполняя их, которые подавляют чувствительность подчас болезненным избытком и удовлетворяют желания, насыщая их большей пищей, чем та, которую они могут переварить, так что в результате нельзя даже достичь насыщения, которые толкают к подлинным страданиям и тяготам в силу противоречивости, которые оживляют вкус [благодаря соприкосновению с] огнем лихорадки, зажженным беспорядочной жизнью, — [избытку] наслаждений, которые относительны и вкушаются только при посредстве противоречия. Словом, я стану развлекаться в ожидании конца. Я буду уважать этот основной закон общества, // повелевающий другим делать то, что желаешь сам себе, и не делать того, чего себе не желаешь. Это закон, продиктованный себялюбием, приноровленный к себялюбию и являющийся не чем иным, как хорошо отрегулированным, благонамеренным, бесконечно хорошо обдуманным себялюбием, верно понятой природой, перестроенным интересом, исправленной алчностью; это закон, [служащий] источником предрассудка, творящий добродетель и порок, добро и зло, справедливость, несправедливость, честь, бесчестие. Я буду верен, буду выполнять обещания, буду ненавидеть угнетения, не причиню никому вреда, стану придерживаться законов чести, буду заботливым и // благодетельным, добрым другом, стану поддерживать слабость [в борьбе] против насилия, буду питать отвращение к неблагодарности, буду чистосердечным, искренним в частных рекомендациях, тщательно буду избегать лжи, уклоняться от ухищрений, низости, подлости, буду ненавидеть предателей, относиться с ужасом к вероломству; я буду брать на себя обязательства ради одного удовольствия обязываться, я буду поддерживать всех, буду всегда извинять недостатки поведения прямотой намерений, я буду вникать в слабости, ненавидеть буду только с сожалением, мстить стану неохотно, из необходимости оградить себя от врага, ради предосторожности, а не // от ярости; я не позволю себе мстить тотчас же, как только я смогу; я буду смотреть на несовершенства человека как человек, я буду наказывать прощением, начну считать только моим собственным несчастьем оскорбления, которые мне наносят, и если не смогу образумить моего противника, то утешусь тем, что сделаю его более [несправедливым, более неблагодарным и буду одолевать его только [сознанием] его вины — я хочу, чтобы оно стало наказанием ему; можно быть моим врагом без того, чтобы я был врагом кому-нибудь. Никогда моя ненависть не воспользуется оружием дружбы и доверия, даже в войне я буду соблюдать законы прежней дружбы; я не выдам секретов // друга, чтобы не перестать владеть ими; я отвергну возмездие не из-за лени и беспечности, но из благородства. Я буду искренним в ласках, и никогда интерес не будет определять их меру, даже при обмене знаками необходимой учтивости и обманчивой вежливости. У меня будет живой, воодушевленный тон, исполненный чувства и уважения, когда я буду принимать достойного человека, и тон общепринятой, холодной, ледяной учтивости при разговоре с фатом. Наконец, чтобы соблюсти обычай и удовлетворить свои наклонности, я возьмусь хвалить и осуждать, стараясь обдумывать все, что я говорю с необходимой осторожностью, // [считая] видом преступления даже своим молчанием предать истину, о которой я вынужден умалчивать. Я буду поступать справедливо, считая это не проявлением благосклонности, а возвращением долга, в уплате которого я первый заинтересован. Я не стану никого презирать, ибо каждый человек равен другому, и между людьми существует только одно подлинное различие — разница природных талантов, ибо знатность и величие суть не более чем узурпация, которую мы терпим, и это относится и к королевскому достоинству, которое есть изъян и полезный беспорядок. Никогда гордыня не заставит меня думать о себе иначе, чем о других, ни в чем я не буду казаться себе ни выше, // ни ниже их; я буду понимать себя с точки зрения всеобщих слабостей и несовершенств, буду держаться наравне с народом и презирать себя, поступая так, как будто бы я был лишен тщеславия. Я заставлю себя сойти с [высоты] моего тщеславия благодаря мысли, что все презренно; я избегну всяких отличий, [связанных] либо с избытком роскоши, либо с чрезмерной невнимательностью [к другим]. Если предубеждение вдруг проявится во мне, это будет неожиданность, от которой я тотчас поправлюсь и которая заставит меня постоянно быть начеку по отношению к самому себе. Я буду любить [лишь] после зрелого размышления. Если я не смогу сразу совладать
с завистью, я отрекусь от своего сердца, буду краснеть перед самим собой, постараюсь заменить // тяжесть тоски удовольствием, которое доставляет уважение, и одержу победу над слабостью при помощи сладости восхищения; я приневолю себя любить предмет, вызывающий у меня уныние, хвалить, уважать, благоприятствовать [ему], восхищаться тем, что я ненавижу. Я хочу, чтобы благородный огонь похвального соперничества угасил мою ненависть и очистил мои желания, чтобы, не испытывая боли перед лицом достоинства, я чувствовал только пылкое желание ему подражать, чтобы стремление походить на него убило желание умалить его; чтобы усилие сравняться с ним отвлекло бы меня от ненависти к нему; пусть справедливость вырвет из моих уст заслуженную им похвалу и накажет меня искренним признанием за то, что я поддался низости. Не нужно даже, чтобы я платил // эту дань, точно приневоленный пленник, в качестве залога рабства, а не любви. Я окажу помощь несчастному и проявлю к нему сострадание, желая, чтобы и со мной так поступили; [хотя] рискованно обязывать всех вокруг, [но] никогда неблагодарность не заставит меня раскаяться в том, что я ото сделал. Я буду смотреть на пороки людей с тем же хладнокровием, как на наклонности животных; я. далекий от мысли оспаривать награду за благодеяние, даже буду признателен за добро, которое [позволят] мне сделать для других. Получив же эту награду, я останусь таким же, каким я был и до ее получения. Я буду удерживать себя силой рассуждения в [том состоянии] чувствительности, которое внушает только что полученная // благодарность и которое незаметно гибнет, хотим ли мы того или нет, ускользает от нас и исчезает, если мы не проявляем заботы, чтобы вскормить и поддержать ее; я буду укрепляться против неблагодарности, в которую я впадаю, сам того не замечая. Я буду стремиться к признательности, не чувствуя ее тяжести, не желая отвергнуть ее и наслаждаясь удовольствием от расположения к ней. Я буду непрестанно обновлять благодарность и дружбу с моим благодетелем. Я буду чувствителен к людской славе, [однако] стану уважать людские почести без того, чтобы мне это стоило моего покоя для получения их; я не буду ни чрезмерно презирать их, // ни чересчур почитать. Когда я распознаю суетность людских аплодисментов, я не смущусь ни избытком, ни недостатком уважения людей или их порицания; я вовсе не буду сражен ни тем, ни другим, будучи без спеси выше того и другого, сдержанно воспринимая расточаемые похвалы и бестрепетно проходя мимо них; когда же их не будет, я, опасаясь людской хулы, [отнесусь к ней] сдержанно и не буду ни угнетен, ни обеспокоен [ею], когда они [станут] меня осуждать, буду малочувствителен к дарам и отказу в них. Покорившись без раболепия их суждениям, не слишком ими пренебрегая, не слишком их опасаясь, я [независимо от того], какой бы ветер ни подул, усну под сенью моей совести, не взывая к ее покровительству; я буду спокоен, // какими бы ни были их мнения. Это мое убежище от людских несправедливостей, и мое собственное одобрение утешает меня. Я принимаю от славы и стыда, которыми люди меня оделяют, лишь то, о чем я уже сказал, то, что я сам себе воздаю, ибо одно только их мнение не делает меня достойным похвалы. Я воспринимаю из похвал, которые они мне расточают, только то, что я заслуживаю; я охотно соглашаюсь на их безразличие, на их забвение; а точнее, — поскольку все они разумные существа, которые не производят на меня никакого впечатления силой, а [оказывают воздействие] лишь благодаря добровольному согласию, полюбовной сделке, с моего одобрения, // при условии, допускающем иллюзии и добровольный обмен, — я беру назад согласие [следовать] их предрассудкам, коль скоро они проявляют неблагодарность или слепоту, лишая меня вознаграждения, которое они обещают тем, кто подчиняется [этим предрассудкам]. Не только моя совесть, то есть привычное к ним суждение, утешает меня, по собственному свидетельству, в том, что я покорился [этим предрассудкам] и что они воздали бы мне по заслугам, если бы знали правду, но осознание того, что я перестал следовать свету, который я отстранил. [Этот свет] учит меня, что ничто не заслуживает ни похвалы, ни порицания иначе чем по согласию и договору, и прогоняет призраки // и привидения, забавлявшие меня в добровольном сновидении, так же как солнце прогоняет тени ночи. Я беру назад свое согласие, если условия, которые были при этом поставлены, не выполнены. Я нарушаю соглашение, которое нарушили люди, готовый, [однако], подчиниться, несмотря на то что люди в своем заблуждении поступили со мной несправедливо, ибо я предпочитаю быть добрым, делать всех счастливыми; и пусть другие будут довольны мной, с тем чтобы они дали мне основание быть довольным ими. Я предпочитаю делать добро, а не зло, воздавая за возданное не только ради удовольствия быть творцом благодеяния, что меня заставляет обязывать кого-то, но даже ради одного этого удовольствия, которое чувствует благородное сердце [при выполнении] своего долга по отношению ко всему, [живя] в счастье // и наслаждаясь благоденствием. Наконец, я буду любить добродетель ради нее одной, когда не надо будет страшиться никакого ада со стороны бога и никаких мучений от людей. Даже если бы все это стоило мне менее легкого принуждения, менее сладостного пожертвования, я |все равно] был бы благодетельным, искренним, справедливым, признательным ради одного желания угодить. Я совсем не служу [людям] из страха перед установившимися предрассудками, но [сделаю это] ради одного лишь удовольствия, которое я приучил себя ощущать, повинуясь ему ради одного лишь удовлетворения, которое, [как показывает мое собственное свидетельство], я привык вкушать, и ради приятного щекотания [нервов]. Ибо чужое и мое мнение, которыми я руководствуюсь и которые формируют мою совесть, по обыкновению причиняющую мне сто мук и несущую сто вознаграждений, [а также] похвалы и порицания достаточны, чтобы заставить меня // поворачиваться в любую сторону, в какую только им угодно, и действовать по их воле. Звука их голоса достаточно, чтобы подчинить мое послушание их желаниям. Вовсе не нужно более существенного мотива для моей доброй воли, чем мое собственное удовлетворение и сама моя добрая воля: ведь тут добровольное заблуждение из-за предрассудков порождает тысячу поводов для удовольствий, которых я не буду иметь и которые, присоединяясь к моим собственным намерениям, ведут меня и увлекают ко всему, что достойно похвал и осуждения.
Это добровольное согласие с допущениями, установленными добродетелью и честыо людей, далеко не бесполезное для меня, есть источник внутреннего удовлетворения, которого достаточно, чтобы мною руководить, даже когда страх перед мукой и судом людей не будет беспокоить // меня, когда я буду свидетелем только самого себя, а в качестве удовлетворения [буду иметь] одно только удовлетворение от следования природным наклонностям и в виде мотива — только мою волю, эту единственную склонность к добру, заставляющую меня делать его даже втайне. Все это убеждает меня, что я неодинаково безразлично отношусь к злу и добру, разве что только когда я заинтересован не делать их. Я по природе добродетелен, а порочен [лишь] по воле случая. Мы были бы благодетельны, искренни, справедливы, если бы не помехи в случайных обстоятельствах, над которыми наши слабые наклонности не могут торжествовать без помощи какой-либо представившейся выгоды, направляющей нас. Это даже правило природы, которое нам подтверждает пример животных, ибо обычно, Ц когда они совершают зло, они делают это только ради собственной пользы, и они были бы добрыми, не будь этого интереса и противоречия себялюбия, колеблющегося между двумя благами или между двумя бедами, причем побеждает сильнейший [мотив].
Я буду следовать законам добродетели и чести благодаря своим собственным действиям. Я покорюсь без труда предрассудкам, моя скрытая, или тайная, нерешительность не сделает меня отличным от других людей, я себе не позволю ничего такого, что они себе не позволяют, я сам представлю на суд общества и свое собственное решение, и чужое; я не буду чувствителен к страху, являющемуся самым худшим из всех зол, я буду жить без всякого беспокойства в моем неведении, не пойду никогда навстречу горю // благодаря нескромному проникновению в будущее. Я не отвергну нынешнего блага из-за огорчений, связанных с будущим злом, ибо зло [есть и] ныне, и мы будем менее несчастны, если наше чувство не будет заниматься другим злом, кроме зла, которое мы ощущаем [в данный момент], и не будет погружаться в либо реальную, либо воображаемую боль. Я буду так же спокоен, как свинья Пиррона*.
* Здесь имеется в виду рассказанная Диогеном Лаэртским («О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов», IX, 66, 68) легенда о том, как Пиррон, находясь на корабле во время бури, указал своим испуганным спутникам на поросенка, спокойно поедавшего свой корм, как на образец безмятежности, которому следует подражать.
Даже в гуще неотвратимо надвигающихся бед я воздержусь от того, чтобы [заранее] чувствовать их. Когда же я их почувствую, моя предосторожность при защите от них будет не печалью, а мудростью и спокойствием. Она не будет хуже, чем само зло, которого хотят избежать, когда оно нагрянет, когда усилие мысли не сможет его отвратить и угнетение тела причинит мне настоящую боль. Тогда по крайней мере я буду чувствовать // ее, насколько смогу, менее. Я буду стенать лишь по мере [того], как она будет становиться более или менее невыносимой, я отдамся ей по возможности в наименьшей степени. Лишь одно мое чувство будет определять мои жалобы.
Я буду отвлекаться, я отшатнусь от страдания, я забудусь, если смогу, укреплюсь против боли. Я спрячусь от нее, наконец, я буду утешать себя необходимостью ее, невозможностью ее избежать, надеждой на ее конец. Размышляя о том, что страдание мгновенно и непродолжительно, что оно не может превзойти и не превосходит моей твердости, я [внутренне] приготавливаюсь к тому, чтобы счесть его совсем легким; оценивая, что может произойти, я взираю на предсмертный час, на пределы моего жизненного пути твердым и // мужественным взглядом, я возвышаюсь над всяким [возможным] событием. Смерть, которая есть также смерть всякого страдания, конец и цель его, меня ничуть не поражает, какой бы горестной ее себе ни представляли, ибо она бывает порой нечувствительной, когда она наступает сразу, или же страдание, которое можно вынести, ведет нас к смерти, готовит к ней, заставляет незаметно смириться с нею, или же жестокое страдание, быстротечность которого сокрушает [нашу] стойкость и избавляет нас от тягот долгой борьбы; — это страдание исчезает из-за своей [собственной] жестокости, удушает и подавляет чувство своей чрезмерностью. В конце концов не столь трудно умереть, как думают. Находясь в добром здравии, мы уверяем себя в том, что смерть есть нечто наихудшее, чем она не является на самом деле, из-за [чувства] противодействия и // отдаления от нее. [Я полагаю], что сила предрассудков, которая в некоторых странах заставляет находить смерть приятной, добавляет [в нас] новый ужас к тому, что природа нам уже внушила, и сильно пугает, способствуя неведению, в котором мы пребываем относительно того, что это такое. Смерти мы никогда не почувствуем, ибо не живут больше с момента, когда смерть настает, и живут, пока ее нет. Это мгновение перехода, которое неощутимо, как впадение в обморочное состояние или отход ко сну, ибо оно есть не что иное, как прекращение бодрствования или жизни, которое не причиняет ни худа, ни добра и которое вовсе не ощущается. Есть только страдания, которые предшествуют этой перемене и этому переходу, они одни реальны и страшны, // и их можно ощущать много раз в жизни. Смерть же есть всего лишь лишение, безболезненное нечто, поскольку она утрата чувства. Животные, которые должны бы нас в этом [отношении многому] научить, нас учат, что смерть совсем не столь ужасна; они умирают легче, чем мы. Это, я уж не знаю точно, какое тягостное [состояние] духа [!]. То же, что следует за смертью, не должно внушать такие опасения. Не следует принимать в качестве правила, что мы должны бояться всего того, что нам неизвестно, или, еще лучше, должны побороть всякую боязнь, чтобы чувствовать подобно животным только боль, которая нас заставляет ощущать себя. Ибо, если мы опасаемся всего, что нам неведомо, мы вечно будем чего-либо бояться. Жизнь [тогда] будет // изобретательной пыткой, добровольным беспокойством, непрестанным изнурением Мы не должны ни желать, ни страшиться неизвестного.
Так рассуждение вернет меня на естественный путь, с которого разум меня совлек, и я буду подлинно близок к животным; благодаря усилию разума я соединюсь с другими существами, буду во всем следовать* свету знания и наклонностям, которые дает природа. Она сама по себе не столь испорчена, как ее делают люди.
* Со слов «я буду во всем следовать...» и до конца публикуемого текста идет второй отрывок, напечатанный в 1747 г. Фогтом.
Я буду рассматривать разум как расстроенный инстинкт, испорченные часы, которые бьют, но не вовремя, причем хотят, чтобы их неправильный ход считался случайным явлением. Тот же провожатый, который увел меня // с верного пути, поможет мне вернуться на него, и я буду выяснять у животных, которые сохранили природу в ее чистоте, как избавиться от испорченности, в которую мы ввергли природу, отрешиться от заблуждений, жить и умирать, как они (что является нашей общей судьбой), после того как жизнь прожита вместе с людьми в размышлениях над их предрассудками и в беседах с самими собой о природе, в поисках добра, уходе от зла, повиновении себялюбию, которое нельзя подавить, в спокойной нерешительности, безмятежном безразличии, неопределенном сомнении относительно того, что же неясно и недостоверно, не имеет названия. С чистыми намерениями и с неудовлетворенной // жаждой скрытой истины я умру без гримас, говоря, как Аристотель: существо существ, каково бы то ни было, сжалься надо мной*.
* Сочинения античных историков философии не сообщают о подобных словах Аристотеля. Возможно, что автор имеет в виду труды средневековых теологов о загробной участи Аристотеля и его «спасении» (см. В. П. Зубов. Аристотель. М., 1963, стр. 252— 253).
Я заявляю, кончая это произведение, что, мне кажется, я не выдвинул ничего достоверного, что все кажущееся наиболее достоверным, [даже] наилучшие рассуждения, не выходит за рамки недостоверного; и [все же] я не сомневаюсь, что не удастся доказать, будто я ошибся, и невозможно сказать мне что-либо еще, что заставит меня отречься от того, что я сказал.
Я сам, размышляя над всем этим, смогу сказать все обратное [тому, что я сказал], и найти другие доводы — а их бесконечное множество, — которые, быть может, уверили бы меня в чем-либо другом, если бы мое состояние нерешительности не делало в моих глазах все недостоверным. // Наконец, можно найти что-либо получше, не находя ничего более основательного, более достоверного, но это не должно доказать ничего другого, кроме непостоянства разума, и укрепить нас в нерешительности и неведении. И вот, наконец, достаточно доводов, речей, убеждений, ошибок. Вернись, природа, не будем более рассуждать, будем чувствовать, будем жить и ничего не ведать в своем спокойствии.
Конец
Автор сего трактата, как говорят, Готофредус из Валлэ и название его: «Искусство ничему не верить», засвидетельствованное в «Галльских наблюдениях», том X, наблюдение 9, «О редчайших книгах» *.
* «Ars nihil credendi» («Искусство ни во что не верить» — лат.) — название, установившееся за памфлетом Жоффруа Балле после 1574 г.; латинское название было дано книге Валле испанским иезуитом Мальдонатом, который этой книги не видел (P. Bayle. Dictionnaire historique et critique, t. 4. Rotterdam, 1720, p. 2795). Латинское название сохранялось за памфлетом до 1712 г., когда было наконец сообщено подлинное заглавие (Menagiana, vol. IV. P., 1729, p. 311). Observationes Hallenses — издание, выпускавшееся в Галле в 1700—1705 гг.
«Блаженство христиан, или бич веры, соч. Жоффруа Балле, уроженца Орлеана...» («La Beatitude des Chrestiens, ou le fleo de la foy...») — трактат публикуется впервые (как на русском языке, так и на языке оригинала). Публикация осуществляется по рукописи, хранящейся в Государственной библиотеке СССР имени Ленина (ф. 218, № 972). Список приобретен в 1959 г.
Сообщения об этой рукописи см.: «Вопросы истории», 1961, № 3, стр. 177; «Средние века», вып. XXII. М., 1962, стр. 283; К. А. Майкова. Источник по истории немецкого свободомыслия в начале XVIII в. — «Записки отдела рукописей», вып. 25. М., 1962.
Рукопись содержит 165 листов (из них 7 чистых), размером 20,0 см Х16,0 см; почерк крупный, каллиграфический, местами видны поправки мелким индивидуальным почерком. Рукопись переплетена в коричневую кожу, переплет сильно потерт, на корешке следы золотого тиснения... BOY ... LLEE. Бумажный водяной знак Pro Patria позволяет датировать рукопись 1714—1746 гг. (Н. Voorn. De papiermolens in de provincie Noord — Holland. Haarlem. 1960. NN 124, 137). Список ГБЛ не имеет никаких записей, штампов или печатей, указывающих на прежних владельцев.
При подготовке настоящего издания удалось выявить следующие рукописные списки «Бича веры»:
1) Список Государственной публичной библиотеки в Ленинграде принадлежит коллекции известного собирателя П. К. Сух-телена (1751 — 1836) и хранится под шифром — Франц. О.III, № 2, см. об этой рукописи: «Под знаменем марксизма», 1941, № 2, стр. 184.
2) Гамбургский список (Hamburg, Staats-und Universitats-hihliothek, Cod. theol. 1854), местонахождение которого после второй мировой войны не установлено.
* Примечания составлены К. А. Майковой.
3) Фрагмент «Бича веры», совпадающий с заключительной частью публикуемою, хранится с 1775 г. в Геттингене (Staats-und Universitatsbibl., Theol. 260).
Два небольших отрывка из трактата были опубликованы в 1747 г. И. Фогтом (J. Vogt. Catalogus historico-criticus librorum Hamburgi, 1753, p. 695—696).
Для настоящего издания французский текст рукописи подготовлен к печати К. А. Майковой. Перевод выполнен И. И. Кравченко и сверен с оригиналом В. И. Башиловым. Слева от русского и французского текста указана пагинация подлинника.
Французский текст «Бича веры» печатается на стр. 221—319 по списку Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина.
Орфография и пунктуация подлинника в основном сохранены; исправлены лишь явные ошибки и описки, повторения устранены; исправлены и оговорены в подстрочных примечаниях искажения, мешающие правильному чтению текста.
Из примечаний к сборнику
"Анонимные атеистические трактаты"