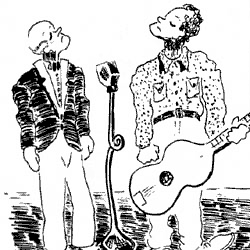ПЕРЕПУТЬЕ
Капли пота на лбу и пальцы будто не мои, а чужие. Я парил в атмосфере крупных купюр - на высоте шестидесяти пяти этажей над землей. Облокотившись на скатерть белее испуганного призрака, я выстукивал пальцами дробь о стенку большого настольного аквариума. В прозрачной воде аквариума плавала пунцовая роза шириной с ладонь, в воде она казалась еще больше, краснее, а листья - зеленее, чем на самом деле. На всех двадцати пяти или тридцати столиках стояли точно такие же аквариумы с розой. Каждый ряд столиков представлял собой подкову, и каждая следующая подкова располагалась чуть выше, чем предыдущая. Я сидел в самой низкой. Столик стоил двадцать пять долларов за вечер.
Шестьдесят пять этажей отделяли меня от всего мира.
Солидное путешествие в лифте, чтобы спуститься туда, где обреталось все прочее человечество. Место, где я находился, называлось Радужным залом в городе под названием Нью-Йорк, в здании под названием Рокфеллер центр - тут даже креветок варят в нефти компании «Стандарт ойл». Я ждал прослушивания на предмет работы. Более шикарного заведения я в жизни не видел. Толстые ковры - все равно, что газон, - плотные плиссированные шторы на окнах.
Я улыбался, слушая, как другие исполнители поднимают все это убранство на смех.
- Судя по мягкой подстилке, это небось отделение для буйных, - сказал женоподобный мужчина во фраке. Он тоже ждал своей очереди.
- Видно, в этом году забыли подстричь газон, - шепотом добавила какая-то женщина с аккордеоном на коленях.
- А эти столики, - сказал я, чуть не захохотав, - вроде самого здания - чем выше, тем холоднее.
Человек, который был нашим гидом и привел нас сюда, пересек ковер, держа нос по ветру, как обученный морской лев, улыбнулся нам и сказал:
- Т-с-с-с-с. Тише.
Все заерзали, потом выпрямились и замерли. Трое или четверо мужчин и две дамы, одетые в тон всей обстановке, прошли через похожие на ворота двери, что вели на главную террасу, и сели у одного из столиков.
- Главный? - спросил я, прикрыв рот рукой.
Головы закивали - «да». Я заметил, что почти у всех изменились лица, люди вроде бы надели маски, уподобившись восковым фигурам, - откинули головы и заулыбались в лучах вечернего солнца так, словно ни разу в жизни не оставались без обеда.
Эстрадники быстро осваивают эту маску; они надевают ее, чтобы всегда улыбаться, как улыбаются обезьяны сквозь прутья клетки; так никто не узнает, что они задолжали за квартиру, что уже второй сезон нет работы, что как раз сейчас они завершили сенсационные гастроли, кончившиеся полным провалом на пятый день.
Исполнители были похожи на богатых клиентов, сиявших в солнечных лучах, а главный босс и все его сопровождение выглядели так, словно в них только что стреляли, но промазали. Отражаясь в воде аквариумов, все, казалось, перевернулось вверх ногами - пол выглядел потолком, коридоры - стенами, голодные - богатыми, богатые - голодными.
Наконец кто-то, видно, дал знак, потому что девушка в платье-мешке встала и спела песню о том, что скоро ей исполнится тринадцать и ей уже невтерпеж, надоело ждать, она боится остаться старой девой и хочет выйти замуж за деревенщину. Головы заходили вверх-вниз, вверх-вниз, а главный босс, боссы-середняки и антрепренеры заулыбались. Я услышал, как кто-то шепнул:
- Считай, контракт у нее в кармане.
- Следующий! Вуди Гатри! - объявил в микрофон франтоватый господин.
«Пожалуй, это буду я»,- сказал я себе, потом поглядел в окно, раздумывая. Полез в карман, вынул легкую десятицентовую монету и пустил ее волчком по скатерти. Она кружилась - орел-решка, орел-решка, а я думал про себя:
«Какая разница между абрикосовым садом в июне прошлого года и этим Радужным залом сейчас, августовским днем?
Да, - за последние месяцы я немало сделал. Ни черта не заработал, но побывал во многих местах. Были хорошие, были средние, были и прямо-таки жуткие. Я написал много песен, пел их везде и всюду, где только собирались люди, чтобы поговорить да попеть - в Мэдиcoн-сквер-гардене и через час в таверне «Кубинские сигары» в испанской части Гарлема; в звуконепроницаемых студиях компаний Си-Би-Эс и Эн-Би-Си и в «Джунглях» нищего гетто.
В некоторых местах меня выставляли напоказ как урода, в других принимали как героя, в притонах Баттери я был очередной блуждающей тенью. Все походило на эту вертящуюся монету - орел-решка. Я больше любил профсоюзных ребят, солдат в военной форме и тех, что ходили в спецовках, тужурках, в фермерских джинсах, потому что песня делала нас друзьями, и мне казалось, что так я работаю вместе с ними.
Но эта вертящаяся монета - мои последние десять центов, а работать в этом Радужном зале - это, по слухам, получать до семидесяти пяти долларов в неделю, а семьдесят пять в неделю - это, черт подери, семьдесят пять в неделю!
- Вуди Гатри!
- Иду!
Я подошел к микрофону, глотая слюну и думая о том, что же я буду петь. В голове было почему-то пустовато, и, сколько я ни думал, ничего не мог придумать - пустота, и все тут.
- С чего вы начнете, мистер Гатри?
- Пожалуй, с маленькой песни. Называется «Нью-Йорк-сити».
Я отодвинул конферансье концом гитары и с ходу стал придумывать слова:
Радужный зал - это зал дай бог,
До Техаса отсюда я б доплюнуть мог.
Вот Нью-Йорк-сити,
Черт, Нью-Йорк-сити,
Это Нью-Йорк-сити,
И болтать мне зря здесь никак нельзя.
Радужный зал на такой высоте,
Где дух проплывает самого Джона Д.!
Вот Нью-Йорк-сити,
Это Нью-Йорк-сити,
Я в Нью-Йорк-сити,
И болтать мне зря здесь никак нельзя!
Город классный, как я сказал,
Пихнул меня в этот Радужный зал,
Это Нью-Йорк-сити,
Это Нью-Йорк-сити,
Черт, Нью-Йорк-сити,
И болтать мне зря уж никак нельзя!
Ну, скажу я вам, я выделывал с этой мелодией черт знает что, разошелся вовсю, пустил пару коленцев, забренчал нагло, как в публичном доме, звезданул эдаким печально-одиноким, из бескрайних прерий, перебором, стараясь, чтобы подруга гитара выручила, заговорила со мной вместе, поговорила за меня, высказала хоть в этот единственный раз все, что я думаю.
Но петь здесь странно оттого,
Что отсюда до Aмерики далеко,
Это Нью-Йорк-сити,
Черт, Нью-Йорк-сити,
Да, Нью-Йорк-сити,
Где болтать мне зря никак нельзя!
Тот, кто объявлял по микрофону, выбежал, размахивая руками, спрашивая на ходу:
- Э-Э-Э-Э-Э ... Сэр, а когда же кончается эта песенка?
- Кончается? - Я посмотрел на него. - Что вы, мистер, она только начинает разворачиваться!
- Номер очень забавный. Волнующий. Весьма своеобразный. Однако я не уверен, что он подойдет клиентуре. Гм. Нашей клиентуре. Разрешите пару вопросов. Вы как, обычно выходите к микрофону, а потом уходите?
- Да, как правило, я иду.
- Это не пойдет. Я вас попрошу выбежать из тех дверей рысью, сделать шажок вбок, когда добежите до эстрады, живо прогарцевать по этим трем ступенькам, а потом подскочить к микрофону на носках, напрягая щиколотки.
Не успел я ответить, как он пронесся преподав мне наглядный урок того, что требовалось.
Один из боссов, что сидел за дальним столиком у стены, крикнул:
- Что касается его выхода, порепетируем неделю или две, и все будет в порядке!
- Конечно! Микрофон, разумеется, придется настроить на его голос, надо будет подправить освещение, но это все потом. Меня больше волнует его грим.
- Молодой человек, каким гримом вы пользуетесь? - спросил из-за своего столика другой босс.
- Пока что обходился без грима, - сказал я в микрофон. Я слышал, как меня зовет далекий грохот товарных поездов и перегонных грузовиков. Я прикусил язык и слушал.
- Знаете, под юпитерами кожа ваша покажется слишком бледной, мертвенной. Вы ведь не станете возражать против какого-нибудь грима, правда?
- Да чего там. Нет, пожалуй.
Почему это я думал одно, а говорил другое?
- Прекрасно! - закивала головой женщина, сидевшая за столиком главного босса. - Так. Ах да, а какой мне достать костюм для него?
- Чего? - спросил я, но никто меня не услышал. Она сложила ручки под подбородком и заработала намазанными ресницами - хлоп, хлоп, как неплотно прибитый кровельный гонт на ветру.
- Я буквально вижу фургон, доверху груженный сеном, на котором восседают поющие крестьяне, а за ними в пыли шагает это беззаботное существо и поет после трудового дня! Это просто изумительно. Нарядим его в платье французского пейзана!
- Постойте, постойте ... Ага! Я представляю его себе жителем болот Луизианы, сидя на пне, он дремлет, ноги уперлись в илистую почву, рядом стоит его ружье. Ах! Какое дополнение к той девчонке в дерюжном мешке, которая хочет выйти за деревенщину! - заспорил с женщиной один из боссов, которому мешала говорить долларовая сигара.
- Нашла! Нашла! Слушайте! - Женщина встала с таким выражением лица, словно она впала в транс, пересекла ковер и подошла ко мне со словами:
- Наконец-то! Пьеро! Нарядим его в костюм Пьеро! В обворожительный клоунский наряд! Это придаст номеру столько живости и сумасшедшего юмора! Ну разве это не блестящая находка?
Она снова сложила руки под подбородком и качнулась к моему плечу, так что я невольно отпрянул.
- Представьте себе только как такие люди засверкают от верно найденного костюма! Беззаботная жизнь! Бескрайние небеса! Деревенская безыскусность! Пьеро! Пьеро!
Она потащила меня за руку, и мы вышли из зала, сопровождаемые гулом одобрения. Один из тех, кто еще ждал очереди, сказал:
- Ух! У него дела пойдут!
Мы вышли на какой-то застекленный балкон, пол которого у стен покрывала стелющаяся зелень. Женщина толкнула меня в кожаное кресло около пластмассового столика и раза два глубоко вздохнула, будто она славно потрудилась.
- Да, о чем бишь это я хотела сказать ... ах да, мое представление о вашем репертуаре, если судить по тому, что вы показали, весьма неполно; так сказать, несколько односторонне, если иметь в виду представленные культурные традиции, а также взаимный обмен, взаимозависимость и взаимовлияние культурных процессов, особенно когда речь идет об Америке, где можно увидеть такую мозаику культур, такую палитру оттенков и цветов. Но тем не менее мне кажется, что костюм клоуна выразит собой солидную часть их юмористического духа и ...
Я перестал слушать ее трескотню и посмотрел в окно, вниз, где на расстоянии шестидесяти пяти этажей жил, дышал, сквернословил и хохотал город Нью-Йорк.
Я заходил по балкону взад-вперед, то и дело поглядывая в окно, вниз; где-то там трепыхались на ветру пеленки, кальсоны и фуфайки, висящие позади домов на пожарных лестницах и бельевых веревках; клубы дыма превращались в туманный, размазанный по небу след, слипаясь с испарениями, которые окутывали город. Куски бумаги летели и взвивались вверх, парили в воздуха
и кувыркались вниз, описывая петли, - разрозненные газетные листы с фотографиями людей, очерками о них.
Лети, бумажка, лети. Крутись, петляй и держись в воздухе, сколько сможешь, а когда опустишься на чей-то шикарный балкон, смотри, не ушибись. Ляжешь и будешь лежать там, выдерживая дождь, и ветер, и копоть, и дым, и пыль, что лезет в глаза в этом огромном городе, будешь лежать на солнцепеке тоже, и так, пока не выцветешь и не сгниешь.
Но ты все равно пытайся сказать свое людям, пытайся как можно дольше хранить изображение человека, потому что без этих слов, что на тебе напечатаны,
и без этого изображения ты бы ничего не стоила. Помни, что, может быть, когда-нибудь и где-нибудь кто-нибудь подберет тебя и посмотрит на эту фотографию, прочтет твои слова. Человек сожжет тебя в своей печке, но в голове у него останутся твои слова, и он повторит их другим, и они разойдутся по белу свету.
Я лечу, кувыркаюсь, ношусь не меньше твоего, и меня тоже подбирали, отшвыривали, снова подбирали; но глаза служили мне фотокамерой, которой я снимал весь мир, а песни мои - что твои слова, я пытаюсь разбросать их по дворам и пожарным лестницам, подоконникам и темным коридорам.
Женщина тем временем трещала пуще прежнего, но я ее не слушал. До моих ушей долетело лишь несколько слов:
Таким образом, интерес, проявленный нашим боссом, вовсе не является чем-то субъективным, отнюдь, отнюдь, вы, бесспорно, удовлетворите запросы его клиентуры, а я всегда говорю, как, вероятно, и вы, что мнение клиента - это наше мнение, не так ли?
Зубы ее засверкали, глаза заиграли разноцветными огоньками.
- Вы согласны?
- Я? С чем? Сейчас, одну минуту, простите, я мигом, ладно?
Я в последний раз взглянул на красные кожаные кресла и пластмассовые столики, схватил гитару и спросил у парня-официанта:
- Где туалет?
Я пошел по направлению его пальца, но, дойдя до двери с буквой «М», быстро свернул вниз в маленький коридор, где висела табличка «Лифт».
Женщина стояла спиной ко мне, кивая головой. Я спросил у лифтера:
- Можно вниз? Ладно. На первый этаж. Как быстро ни поедешь, все равно будет слишком медленно!
Когда мы приземлились, я вышел и пошел по гладкому мраморному полу, бренча на гитаре и горланя:
Всякому, бывает, не везет,
Да, всякому, бывает, не везет.
Кругом шишнадцать
И карман
3акрыт на учет!
Никогда я не слыхал, чтобы моя гитара звенела так громко, так протяжно и так чисто, как среди этих отполированных мраморных стен. Сила звучания каждой ноты и моего голоса удесятерялась. Я набрал полные легкие вольного воздуха и запел так, что здание задрожало.
Я хотел, чтобы все эти пуделя, что вели за собой дамочек, подняли кверху носы и задумались: что это здесь происходит? Слишком долго люди ходили по этим выложенным изразцами коридорам чинно, благородно.
Я решил, что сейчас, пусть хоть в течение одного мгновения, хоть один раз в жизни, они увидят живого человека, который поет не потому, что его наняли и обязали что-то спеть, а просто он думает о жизни и поет об этом.
Песня пошла плясать, отскакивая от мозаики и стенной росписи. И люди перестали глазеть на шикарные освещенные витрины, что шли вдоль коридоров, и стали слушать мои слова, адресованные всему миру:
Старик Джон Д. - он, мне не друг,
Старик Джон Д. - он, мне не друг,
Говорю, старик Джон Д. - он, мне не друг,
Девчонок всех берет себе,
А парни без подруг!
Детишки, вырвавшись из родительских рук, бежали ко мне, терлись носом и ушами о мою гитару. Я перебирал струны, и до меня доносилось:
- Интересно, что он рекламирует?
- Какая прелесть!
- И до чего своеобразно!
- Он с Запада. Возможно, заблудился в метро. Дети! Вернитесь сейчас же!
Я услышал голос легавого:
- Прекрати! Эй ты! Тебе здесь не место!
Но прежде чем он добрался до меня, я проскочил через вертящиеся двери, проложил себе дорогу через несколько улиц, битком набитых машинами, и пошел топать по тротуарам, не особенно задумываясь, куда я иду. Прошло, может, несколько часов. А может, дней. Мне было не до того.
Я уворачивался от пешеходов, играющих детей, ржавых железных заборов, подгнивших ступенек, и голова моя раскалывалась, силясь понять, почему это я удрал с шестьдесят пятого этажа того небоскреба. Все же где-то в глубине души я, видно, знал причину. Потому что через некоторое время я оказался на Девятой авеню и пересек длинный квартал, чтобы добраться до набережной.
Здесь я оказался в море мамаш, которые восседали на высоких каменных ступеньках или же прямо посреди улицы на плетеных стульях, в тени, а кто на солнце, и болтали, болтали, болтали. Бог одарил их одним талантом: болтать, обсуждать ветер, погоду, обочину дороги, мостовую, тротуар, квартиры, тараканов, клопов, квартирную плату, хозяина и при этом не терять из виду сотни и сотни ребят, которые играли на улице. И вот я шел, и, о чем бы ни разговаривали эти женщины, они прерывали свою трескотню и кричали мне с обеих сторон улиц: «Музыкант! Эй! Сыграй-ка нам песенку!», «Привет! Ну-ка, выдай!», «Пожалуйста, сыграй», «Спой мне серенаду!» И я шел беззаботно в лучах заходящего солнца, выписывал кривую среди всех этих женщин, мальчишек и девочек, и пел:
Ну, что море говорит?
Скажи, что море говорит?
Я шел дальше, а день тихонько исчезал за верхушками высоких зданий, просеивался сквозь сито множества почерневших труб.
Благодарение богу, не все на свете приглажено да причесано, не все поддельно. Слава тебе господи, не все трусят. Трусят в небоскребах и трусят там, где стучит маленький механизм, который никогда не взрывается, - биржевой телетайп, который запугивает тысячи людей насмерть, отсчитывает своим тиканьем смерти, свадьбы, разводы, друзей и врагов; эти телетайпы, как музыкальные автоматы, играют фальшивые и лживые песни в диких каньонах Уолл-стрита – песни -стенания тех семей, которые разоряются, песни-гимны победителей. Только здесь, в трущобах, люди действительно живут, а как назвать то, что происходит в том здании, откуда я бежал, просто не знаю.
Я заметил, что за мной идет мексиканский моряк с добрым спокойным лицом. Он был невысокого роста, почти как подросток, и солнце и море напомадили его волосы и сделали мягкой его улыбку. Через квартал-другой мы познакомились, и он сказал мне:
- Меня зовут Карлос, называй меня просто Карл. Больше он ничего почти не сказал; мы сразу почувствовали себя друзьями, и было как-то ни к чему произносить на этот счет речи. Примерно час я ходил и пел, а этот человек шел рядом со мной, спокойно улыбался и ничего не рассказывал о подводных лодках и торпедах, не корчил из себя героя.
Девочка и мальчик ехали рядом на роликовых коньках и просили меня петь громче, чтобы перекрыть шум коньков. Другие ребята перестали драться и присоединились к нам. Мамаши кричали на всех языках мира: «Дети, вернитесь!». Но ребята проводили меня до угла следующей улицы, подпевая, а потом долго стояли там, глядя мне вслед.
В каждом квартале собиралась новая куча ребят, они шли рядом, трогали пальцами гитару, кожаный ремешок, струны. Ребята постарше хихикали и флиртовали в подъездах, возились перед аптеками и лавками, где торговали дешевыми конфетами, но я успевал спеть несколько слов им тоже - несколько нот из той песни, что они просили сыграть.
Временами я останавливался, и тогда папы, мамы и детишки всех возрастов собирались вокруг, стараясь не шуметь, но рокот и лязг тяжелых грузовиков, автобусов, фургонов и машин заставлял их подходить ко мне почти вплотную, чтобы хоть что-нибудь расслышать.
Подкралась ночь, летняя ночь с легким ветерком и бурыми облаками, превращающая дома в медленно плывущие по океану торговые корабли. Толпа моих слушателей сливалась с темнотой, растянувшись вдоль каменных ступенек и железных оград, и я почувствовал, как прежнее знакомое чувство постепенно возвращается ко мне. Когда я добрался до причала, я все еще пел, повторяя уже в который раз:
Это было по весне,
По весне сорок второй,
И была она царевной
Океанской и морской.
Над Гудзоном стлался дым,
Было все черным-черно,
Как легла она на бок
И ушла, как груз, на дно.
Имя «Нормандия» ей,
И слава гремела о ней,
Нету позора сильней
Ушла она камнем на дно.
Голоса в темноте слились воедино.
Из тумана перед моими глазами вставал экран, на котором шла картина про то, как я пою на шестьдесят пятом этаже Рокфеллер-центра, исполняю пару песен и потом бегу в свою уборную, чтобы покурить и поиграть час-другой в карты, пока не начнется следующее представление, а потом снова курево и карты.
И я знал: я рад, что разделался с этим сентиментальным слащавым дерьмом, рад вдвойне, что я здесь, что пою вместе с этими людьми, пою что-то драчливое и отчаянное, хохочущее, могучее, взрывчатое.
Карл тронул меня за руку, и мы приостановились в зеленом полыхании неоновой вывески, которая гласила: «Бар «Якорь». Карл сказал:
- Это хорошее место; здесь собирается славный народец.
Толпа, которая шла за нами, тоже остановилась, все качали в такт головами и пели:
Имя «Нормандия» ей,
И слава гремела о ней,
Нету позора сильней
Ушла она камнем на дно.
Потом я спел один:
Ее имя запомни,
И помни печаль,
Если вместе возьмемся –
Поплывет она вдаль.
Шапки, кепки, свитера и платья всех фасонов отбивают ритм о бетон тротуара, руки прихлопывают, настроение такое, будто старая вера пробудила новые надежды. Когда я повнимательнее всмотрелся в толпу, я заметил много матросских блуз и бескозырок. Сквозь открытую дверь бара, через большие окна, ложась на наши спины и лица, лился свет.
- Еще! Пой!
- Полный вперед!
- Где это ты выкопал такую песню? - спросила женщина.
- Да как сказать, - ответил я, - побывал там и сям, кое-что повидал, кое-что сочинил об этом.
- Угощу стаканчиком, если хочешь! - сказал мужчина.
- Ладно, мистер, ловлю тебя на слове, но чуть повремени. Не могу сейчас, а то все разойдутся!
- А тебе-то что? - ответил он, глядя на толпу. Хочешь пройти на выборах вместе со своей бренчалкой?
- У меня в Оклахоме, - сострил я, - есть знакомый негр, который играет на губной гармошке, так четыре последних губернатора прошли только благодаря ему!
Смешок прокатился по толпе, и целое облако дыма от сигарет, сигар и моряцких трубок поднялось вверх. Попыхивали и затягивались, и в мерцании огоньков я видел лица, и по тому, какие они твердые и жесткие, я понял, что лучшей компании не сыщешь.
Высоченный дядя протиснулся сквозь толпу, не вынимая из карманов пальто глубоко засунутых туда рук, и сказал:
- Ах ты чертяка! Как дела?
Это был мой старый друг Уилл Гир, актер, игравший главную роль Джитера Лестера в пьесе «Табачная дорога». Здоровенный малый, чьи голова и плечи всегда торчали над всеми. Я еле удержался на ногах, когда он саданул меня ладонью между плеч и сказал:
- Пес ты старый! Как тебе живется?
- Привет, Уилл! Черт бы тебя подрал! Открой пасть и давай пой!
- Продолжай и не обращай на меня внимания.
В голосе Уилла я услышал шум, напоминавший потрескивание полена в огне.
- Как это я не сразу угадал, что это ты, когда заметил поющую толпу! Дуй дальше!
- Карл, познакомься с моим другом Уиллом.
- Мистер Уилл?
- Рад познакомиться.
- Эй, люди! Это мой друг! Уилл его зовут!
- Что поделывал последние дни? – спросил Уилл
- Да ничего особенного, попел малость
- Работенка?
- Кое-что есть.
- Где?
- В ночных клубах в основном
- Получилось?
- Гм… Видишь ли… Ну в общем… Прослушивание у меня было сегодня в - Рокфеллер-центре.
- Рокфеллер-центр? Ух ты! Вышло?
- Я, во всяком случае, вышел.
- Не стал, что ли? Отказался?
- Черт подери, Уилл! Я не мог иначе! Это слишком уж не по мне!
- Если будешь так продолжать, никаких шансов у тебя в Нью-Йорке не останется. Будь поосторожней.
- Слушай, Уилл. Ты меня знаешь. Ты знаешь, что я готов играть сколько скажут, чтобы получить на хлеб, бобы и гнилую воду, да и вообще, я готов играть для всех, кому это только нравится, кто понимает в этом толк, кто живет тем, о чем я пою. У меня в голове каша. Они хотят доказать мне, что я должен петь это псевдонародное дерьмо, если только я хочу жить и не сдохнуть от голода!
- Да, ты в таком обществе не мог не взорваться, верно? Но, Вуди, деньги - это все-таки главное.
- Знаю. Знаю.
Я в это время думал о девушке по имени Рут.
- А ну его все к чертовой матери! Может, у меня не хватает извилин, чтобы сообразить, что к чему. Но ты пойми, Уилл, я с самого детства видел, как деньги приходят и уходят, но меня это ничуть не волновало. Никогда. Для меня главное - чтобы слушали мои песни.
- И для этого, парень, нужны деньги. Хочешь, чтобы у тебя было имя - выкладывай звонную монету. Хочешь заниматься благотворительностью, помогать всем беднякам по стране - тоже без денег не выйдет.
- А почему я не могу помогать людям собой?
Уилл хмыкнул.
- А почему тебе не вернуться в Радужный зал? Не поздно сейчас?
- Нет, пожалуй, не поздно. Пожалуй, я мог бы вернуться. Мог бы.
Я посмотрел вверх на высокие, громадные здания. Тишина, окружавшая нас, казалось, орала на меня: «Ну? Что будешь делать? Давай, парень, решайся! Сейчас, парень, или никогда! Черт подери, сейчас или никогда!».
Маленький буксир, извергая дым, появился перед нами, и я смотрел, как он трудится в грязной воде, все равно что жук в пыли.
- Баржа-то вроде движется? - спросил я Уилла.
- Как будто.
Он шагнул к норме и одним прыжком перемахнул на баржу семьи Мак-Элрой - теперь нас отделяло друг от друга расстояние в два фута.
- Твою баржу тянет этот буксир! Кинь мне гитару! Прыгай!
Я не сразу ответил. Я решил выиграть немного времени и сказал:
- Да, пожалуй, на самом деле двинулась.
- Прыгай! Скорее! Я поймаю гитару! Прыгай! Он уже бежал рядом рысцой.
- Прыгай!
Я пристроился на куче гравия, закурил сигарету и пустил дым в сторону длинного, высоченного Рокфеллер-центра. Лицо Уилла расплылось в широкой улыбне, и он сказал:
- Деньги-то хоть есть у тебя?
Я кинул в воду камешек и сказал:
- Наступит утро, я пошарю в карманах и проверю!
- Да, но куда же ты направляешься?
- Кто его знает!
Мой старый друг остался стоять позади, тяжело переводя дыхание. Я прошелся большим пальцем по струнам. В воде, что булькала у моих ног, я видел отражение пожара и ребят, воюющих из-за крепости, и совсем маленького мальчишку, что застрял на дереве, и мамашу-кошку, что искала своих убитых котят. Клара не была обгоревшей, а мама сумасшедшей в этой воде. Они были красивые. Я видел на воде нефтяную пленку, что, может, приплыла сюда из моих родных краев - Западного Техаса, или Пампы, или Окимы. Видел я там и отражение лагеря в Рединге, и забегаловок «дна», да только они казались слишком чистыми. Но яснее всего я видел девушку в фруктовом саду и как она танцевала на илистом берегу реки.
Плыви, баржа, плыви, тяни маленький буксир, надрывайся, трудись, вгрызайся, изрежь эту воду к чертовой матери.
Все равно морщины разгладятся.