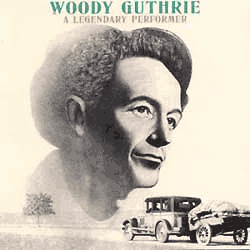 |
|---|
ВУДИ ГАТРИ |
|
ПОЕЗД МЧИТСЯ К СЛАВЕ |
|
| ::: agitclub ::: sing out::: woody guthrie |
Да, я поеду, думал я. Сейчас как раз самое время зашагать по дороге. Около трех часов дня. - Говорят, что в городе осталось чуть ли не всего шестнадцать тысяч человек, - сказал я. Я хлопнул дверцей, попятился к обочине и стал смотреть, как грузовик свернул с главного шоссе, прогромыхал по мосту и через пастбище поехал на север. Шофер не сказал мне на прощание ни единого слова. Странно, подумал я. Эта скверная туча ... А обратно в город идти пять миль. Нечего даже думать о том, чтобы вернуться. Это еще что за ерунда торчит у меня из кармана рубашки? Провалиться мне на этом месте. Ей-богу, чтоб я провалился. Зелененький доллар. Не удивительно, что он просто жевал свою резинку. Шоферы грузовиков иногда без единого слова могут сказать чертовски много. Ураган завоевал весь пшеничный край: пыльный снег был похож на тальк или высохшую пасту, и ветер нес его вместе с наждачными осколками пыли. Снег сухой. А пыль холодная. Небо темное, а ветер превратил весь мир в странную свистящую и гудящую землю. Плоские поля и пастбища стали душными и тесными. До ближайшего поселка оставалось около трех миль. Я прошел примерно две мили в разбушевавшейся буре и наконец сел на грузовик, везший насмерть перепуганный скот. Закутанный шофер курил слабо набитые сигареты, и табак кружился так же бешено, как пыль и снег, и жалил, как оса, когда попадал мне в глаза. Последнюю милю мы проорали - то я ему что-то орал, то он мне. Он свернет с главного шоссе около Кингс-Милла и двинет на север. Вскоре другой скотовод согласился подбросить меня до следующего поселка. Он курил трубку, которая в течение последних двадцати лет отнимала у него куда больше времени, чем жена, дети и весь его скот. Он сказал мне: - Этот кусок Техаса может быть самым лучшим местом на земле, когда он в хорошем настроении, но когда он рассердится - это сущий ад на колесах. Его грузовик делал пятнадцать-двадцать миль в час. Прошел ветреный и напряженный час, пока мы проползли пятнадцать миль от Кингс-Милла до Уайт-Дира. К тому времени, как мы приехали, у меня уже зуб на зуб не попадал, я едва смог вылезти из грузовика. Жар от мотора дал мне те два или три градуса, благодаря которым я не замерз совсем. Но когда я опять очутился на ветру, стало еще хуже. Я прошел еще милю или две по обочине дороги, шагал широко и размахивал рунами. Два или три раза я останавливался, стоял лицом к ветру и ждал, пригнув голову: я думал, что вряд ли какой-нибудь шофер заметит меня в этом аду. Когда я снова двинулся в путь, я почувствовал, что мышцы ног у меня напряжены, они болели при каждом шаге так, что я прошел по крайней мере сто ярдов, прежде чем они опять стали послушными. Это настолько меня напугало, что я решил идти все время, не останавливаясь. Они высадили меня на улицах Амарилло, в шестидесяти милях от Пампы. Я пошел по городу. Становилось все холоднее. Перекати-поле, осколки гравия, грязный лохматый снег ползли по улицам города и по пустырям; оседлав ветер, вкатывалась пыль и покрывала землю. Я пересек городишко и стал ждать у дороги попутную машину. Прошел час, а она все не появлялась. У меня не было ни мaлейшего желания снова топать пешком по дороге, чтобы сохранить тепло; стемнело, и ничего нельзя было разглядеть в такую ночь. Я прошел обратно двадцать пять или тридцать кварталов и дошел до главной улицы Амарилло. Надпись на плaкате гласила: «Население 50000. Добро пожаловать». Я зашел в кино, чтобы обогреться, и купил там пакетик славной горячей воздушной кукурузы. Я хотел просидеть в этом дешевеньком кино как можно дольше, но кинотеатры в Амарилло закрываются в полночь, так что очень скоро я снова оказался на улице и стал прохаживаться взад и вперед, рассматривая ювелирные изделия и одежду, выставленную в витринах. Я купил на пять центов табаку и пытался свернуть сигарету на всех углах Полк-стрит, но ветер по щепотке развеивал мой табак. Я до сих пор помню, до чего это было смешно. Даже когда мне удавалось свернуть сигарету, облизать кpaй и сунуть ее в рот, едва я зажигал спичку, ветер с такой силой обрушивался на горящий конец, что сигарета начинала полыхать, как фейерверк, так что нельзя было сделать ни одной глубокой затяжки, а горящий пепел яркими искрами обсыпал все мое пальто. На следующее утро я вышел на улицу, где ураган бушевал с ночи в вихрях серого снега, похожего на дым. Снег покрыл всю землю, так что под ним было почти невозможно разглядеть шоссе. Путь от Аламогордо до Лас-Крусес – самое тяжелое время в моей жизни. Шоссейная дорога тянулась через пустынный ряд холмов, слишком маленьких, чтобы назвать их горами, и слишком высоких, чтобы они выглядели плоской пустыней. Эти холмы очень обманчивы. Когда смотришь на них с гор, они кажутся крошечными и путь через них прямым, но дорога извивается и крутится без конца, и на каждом холме сама себя теряет полдюжины раз. Эта дорога то сверкает перед нами, как гладкая лента фольги, то вдруг исчезает из глаз, и вы можете идти часами и еще часами, почти не приближаясь к тому месту, которое уже так давно виднелось впереди. Я всегда был любителем ходить и при этом без устали рассматривать все, что находится по обочинам дороги. Я слишком любопытен, чтобы ждать. Слишком нервен, чтобы сидеть, сложа руки. Слишком одержим лихорадкой путешествия, чтобы медлить. Я отшагал около пятнадцати миль и наконец так устал, что вышел на обочину, лег на самом солнцепеке и заснул. Я просыпался каждый раз, когда мимо проезжала машина, прислушивался к пению колес и думал об упущенной возможности, не боясь дождя и холода, проделать весь оставшийся путь до Калифорнии. Мне было трудно отдыхать. Деминг был единственным городом в радиусе ста миль, где товарный поезд стоял ровно столько, сколько нужно, чтобы вскочить на подножку. Я прошел солидный кусок пути. Должно быть, не менее двадцати миль. Было уже за полночь. Мимо ехал фермер, он остановился и сказал, что может подбросить меня на десять миль. Я согласился, и еще пятнадцать миль пути к Демингу остались позади. Утром, не дожидаясь восхода солнца, я уже отшагал пару часов, когда меня подхватил грузовик, в котором сидело не менее двадцати любителей голосовать на проезжих дорогах. И почти все они мчались в Деминг, чтобы поймать там товарный поезд. А на улицах и железнодорожной станции Деминга шаталась еще целая куча моих попутчиков. Деминг - хороший город, веселый город, но в нем лучше держать язык за зубами. Опытные любители поездить советовали здесь помалкивать, чтобы фараоны не получили блестящую возможность доказать налогоплательщикам, что те не зря платят свои налоги, а они не зря едят свой хлеб. В эту ночь в Таксоне было холодно. Мы пролежали пару часов, когда чья-то черная голова и плечи отчетливо вырисовались в квадрате люка на фоне морозной лунной ночи. - Ребята, можете выходить. Нас отцепили. Эти вагоны дальше не поедут. Голова и плечи исчезли, и стало слышно, как ребята скатываются вниз со всех сторон, десятками и дюжинами спрыгивая по сверкающим железным лесенкам на полотно. - Ищейки. Утро. Ребята - смылись, их нет. Сто человек или даже больше прикатили на скором поезде ночью, и было холодно. А теперь настало утро, и их как ветром сдуло. Они научились не мозолить глаза. Повстречавшись в пути, они поговорят о трудностях путешествия, покурят при лунном свете окурки, передавая их друг другу, вскипятят жестянку кофе среди сорняков; их, как кроликов, целые сотни, а когда солнце зальет светом землю, они исчезают. Я смотрел на равнину, поросшую первыми ростками чего-то зеленого и на вид съедобного, и видел этих ребят, знал, кто они такие и что они сейчас делают. Они стучались в двери, говорили с домохозяйками, предлагали свои услуги, чтобы заработать на ломоть хлеба с мясом, или на холодный бисквит, или картошку, или просто хлеб, или половинку луковицы; надо было хоть как-то подзаправиться, чтобы дойти до знакомых мест, где они знали людей, где у них были друзья, которые согласятся кормить их, пока они подыщут себе работенку. У меня возникло странное чувство, когда я стоял там и думал обо всем этом. Я всегда мог что-то сыграть или что-то нарисовать, мне обычно удавалось найти какое-нибудь занятие, которое дaвало мне деньги, и я свободно расхаживал с этими дeньгами по городу и мог купить любую еду или питье - все, что я хотел. Я всегда испытывал чувство удовлетворения, когда моя монета звякала на прилавке или по крайней мере, когда я работал, чтобы купить себе еду. Сейчас я не ел уже не один день. Но я был слишком горд, чтобы идти попрошайничать. Я все еще не терял надежды, что найду хоть какую-нибудь работу, что заработаю себе на еду. Никогда еще мне не приходилось так долго не есть. Больше, чем целых два дня и две ночи. Это был странный город, и в нем нельзя было избавиться от странного чувства, будто он полон народа – рабочих-мексиканцев, белых рабочих, бродяг всех цветов кожи и глаз - и будто весь этот народ во власти голода охотится за работой. У меня было слишком много гордости, чтобы уподобиться им всем и идти стучаться в двери. Я уже слабел от голода. Нервы были напряжены, меня трясло, и я никак не мог остановить эту дрожь. Слышал запах бекона или кукурузных лепешек, которые жарили на расстоянии полумили от меня. При одной мысли о фруктах начинал облизывать свои горячие губы. Меня продолжало трясти, и я все тупел и тупел. Мозг не работал так безотказно, как прежде. Я не мог думать. Какое-то оцепенение напало на меня, я сел на рельсы, забыв даже о том, где нахожусь, просто сел и стал думать о домах с холодильниками, с плитами, столами, горячей пищей, холодными завтраками, с горячим кофе, ледяным пивом, домашним вином, о друзьях и родных. Вскоре появился какой-то сухопарый человек; он шел через зеленую лужайку по направлению ко мне, держа в руках коричневый кулек. Когда расстояние между нами сократилось до пятнадцати футов, я увидел темные пятна вкуснейшего жира, пропитавшего его кулек. Я даже потянул носом воздух, вытянув голову в его сторону, когда он еще больше приблизился ко мне: инстинктивно я угадал запах домашнего масла, луна и соленой свинины. Он сел под дощатым навесом водонапорной башни, вынул из кулька свою еду и начал есть, а я смотрел на него. Он ел с чувством, не торопясь. Закончив трапезу, он облизал кончики пальцев, откинув голову назад, чтобы не уронить ни одной крошки. Я качал головой, но слушал. Напоследок он сказал: - Я бродяжничал так очень долго. Я, конечно, мог запросто поделиться с тобой своим завтраком, но это было бы без пользы для тебя. Ты бы ничему не научился. Мне несладко приходилось, пока я хоть чему-то научился. Я ходил по богатым кварталам и понял, что это такое; потом я пошел в рабочую часть города и понял, что это такое. А теперь тебе самое время отправляться искать жратву, не то пузо у тебя прилипнет к позвоночнику. Я два или три раза сказал ему спасибо, и несколько минут мы посидели молча. Сидели и смотрели. А потом он легко поднялся, пожелал мне удачи и пошел прочь по рельсам. Я сам не понимаю, что творилось у меня в голове. Немного погодя я встал и огляделся по сторонам. Сначала я посмотрел на север, потом на юг. И если бы у меня было то, что называется собачьим нюхом, я бы пошел на север к домишкам, которые принадлежали железнодорожным рабочим и фермерам. Но любопытство бродило во мне со страшной силой, и, судя по моему поведению, никак нельзя было сказать, что я руководствуюсь здравым смыслом. Было около девяти часов утра. В бедняцких домах уже начали работать, все задвигалось. Но там, куда шел я, все было тихо, все спало глубоким сном, полным утренних грез. В раннем утреннем солнце ползут по тротуару желтые и коричневые листья, как гусеницы, вздымающие и опускающие свой горб, и солнечные пятна усыпают аллею, которая ведет к дому священника. В тени деревьев, под которыми вы идете к черному ходу, становится прохладнее. Вы поднимаетесь на три ступеньки и тихонько стучитесь в дверь. - Э-э-э, доброе утро, госпожа, - говорите вы ей. Я пришел к другой церкви. Она была построена из песчаника, медленно, но верно рассыпающегося и выходящего из моды. По сторонам церкви стояли два дома, поэтому я остановился и стал гадать, какой же из них принадлежит священнику. Отгадать было непросто. Но при ближайшем рассмотрении я обнаружил, что один из домов выглядит более сонно, чем другой, и направился к этому соне. Я оказался, прав. Дом принадлежал священнику. Я постучал в заднюю дверь. Из-под крыльца выскочил злющий кот и сиганул через голый забор. Больше ничего не произошло. Я стучал по крайней мере пять минут. Никто не проснулся. Стыдясь самого своего присутствия здесь, я па цыпочках спустился па тротуар и, стараясь не шуметь, пошел дальше. Я пришел в деловую часть города. Лавки потягивались и зевали, но еще не проснулись. Я быстро шел мимо сверкающих витрин, заваленных слишком дорогим тряпьем и горячими, благоухающими булками, ждущими разносчика. Здоровенный фараон уже с полквартала шел за мной Глядя поверх моих плеч, он пытался разгадать мои намерения. Когда я обернулся, он подарил меня улыбкой. - Доброе утро, - сказал он. С таким же успехом я мог беседовать с воздухом. - Ты или помрешь с голоду, или угодишь в тюрьму. Он кивнул головой. Да, он имеет в виду неприятности. - Он кивнул парикмахеру, который отпирал дверь своего заведения .. - Между прочим, который час? - Я постарался придать своему лицу возможно более сосредоточенное выpaжение. Он несколько раз затянулся сигаретой, которая висела в уголке его рта, посмотрел на все на свете, кроме меня, и сказал: - Самое время для тебя убираться отсюда. Я сохранял невозмутимость. - Через минуту хозяева начнут открывать свои лавки, и им не понравится, что я разрешил такой перелетной птичке торчать на этих улицах всю ночь. Убирайся поскорее. И не оглядывайся. Он смотрел мне вслед, когда я уходил и мы оба понимали, почему каждый из нас действует именно так, а не иначе. В городе была еще одна церковь, где я должен был попробовать свои силы, - самая большая. То ли миссия, то ли собор - что-то в этом роде. Большое красивое здание с башней и каменной резьбой наверху. Тяжелые виноградные дозы цеплялись за грубую поверхность камней. Это была совершенно новая церковь, и все в ней было в большом порядке. - Я просто слышал от здешних людей, что вы всегда даете работу разным путникам, чтобы они могли поесть ... понимаете, я как раз направляюсь в Калифорнию..., - я был слишком голоден, чтобы продолжать. Она сделала несколько шагов и поднялась на низкое каменное крыльцо. Она повернулась и тронула щеколду двери, которая вела куда-то в парк. Мы безмолвно улыбнулись друг другу. Я снова сел и прождал еще десять минут, и нутро мое все более настоятельно требовало еды, так что в конце концов я стал считать листья на виноградных лозах. Потом я снова пересчитал их, отдельно темно-зеленые и отдельно светло-зеленые. Я уже приготовился считать нежно-зеленые и темно-желто-зеленые, когда первая леди вышла из двери за моей спиной, тронула меня за плечо и сказала, что если я пройду к главному входу, то меня встретит там отец Франциск и мы сможем обсудить мое положение, с тем чтобы прийти и какому-нибудь определенному решению. Я встал, дрожа, как листья, и ухватился за стену, как виноградная лоза, потом пришел в себя и довольно твердо пошел и главному входу. - 3дравствуйте, - сказал он. Я протянул руку, схватил его руку и пожал ее со всем дружелюбием, на которое был способен. - Мистер Санфранциско, Фрицсанко, Фриско, я страшно рад познакомиться с вами. Меня зовут Гатри. Техас. Край нищих. Скот. Вы знаете. Нефтяной бум. Вот. Хороший день сегодня. Глубоким спокойным голосом, который так хорошо звучал под сводами церкви, он сказал мне, что да, день хороший и что он рад познакомиться со мной. Я еще раз заверил его, что тоже рад познакомиться с ним, но что мне будет еще радостнее на душе, если он подыщет для меня какую-нибудь работу, чтобы я мог поесть. - Два дня. Без еды, - сказал я ему. И тогда мягко и все так же приветливо снова зазвучал его голос, а глаза засветились в полумраке. - Сын мой, - сказал он, - я несу эту службу всю мою жизнь. Я видел тысячи таких же, как ты, людей, которые ищут работу, чтобы заработать на пропитание. Но в настоящий момент у нас здесь нет никакой работы, совершенно никакой; и поэтому в данном случае мы имеем дело с чистой благотворительностью. Благотворительность же здесь такая же, как везде, она помогает на короткое время, а потом уже более не помогает. Быть милосердным - это обязательная часть нашей программы, потому что давать лучше, чем принимать.
Дверь открыла женщина. Она сказала раздраженно и сварливо, что у нее нет для меня никакой работы. Выжимая тряпку и ворча себе под нос, она пошла обратно в дом. - Молодые, старые, всякие тут ходят, ходят, спасу нет, то отстали от товарного, то еще что-нибудь, топчут мои помидоры, стучатся без конца, ошиваются у всех порогов. Было бы куда лучше, если бы вы сидели дома ... Молодые ребята могут влипнуть в любую историю. Голодные, холодные, грязные, оборванные ... и грузовик их запросто сшибет, и под поезд они могут попасть. Мало ли что! Да-да-да. Не смей уходить, дурак ты этакий. Сейчас дам тебе тарелку, что у меня есть, то и дам. Больше нет ничего. Идиоты несчастные. Надо было сидеть дома с мамой и папой, вот что тебе надо было делать. Она открыла дверь и вышла на порог: Идя вдоль по улице, я остановился у другого дома. Подошел к крыльцу и постучал. Я услышал, как кто-то внутри ходит, но дверь не открылась. Я постучал еще, подождал пять минут, и невысокого роста женщина приотворила дверь, выглянула из нее, но все равно не открыла. - Что тебе надо? - спросила она. У нее был тaкой вид, будто она чего-то боялась. - Нет, у меня нет никакой работы. Ш-ш-ш-ш-ш. Не говори так громко. И у меня нет никакой еды в доме, чтобы завернуть для тебя. Я стоял и смотрел через помидорные грядки в сторону станции. Паровоз таскал туда и обратно пустые вагоны, и я знал, что он сцепляет наш товарный. Я попытался тоже шепотом сказать ей спасибо, но она покачала головой, чтобы я молчал.
|
|
|
|