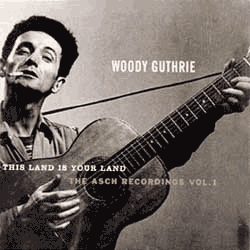ОГНЕТУШИТЕЛИ
Однажды я играл на бабушкиной ферме и вдруг примерно в три часа услышал длинный протяжный вой сирены. Пожарной сирены. Мне не впервой было слышать этот звук. Но я всегда чувствовал себя скверно, когда начинал гадать, где случился пожар на этот раз, чей новый дом огонь превращает в пепел. Примерно через час какая-то машина свернула с главной дороги и вся в клубящемся облаке пыли подкатила к дому. В машине сидел мой брат Рой. Он приехал за мной. С ним были еще двое. Они сказали, что горит наш дом.
Но сначала они сказали: - С Кларой ...
- Обгорела страшно ... может, не выживет ... был врач ... сказал, чтобы приготовились к этому ...
Они швырнули меня в машину, как овчарку, и я всю дорогу простоял, вытягивая шею, чтобы увидеть дом. Я старался разглядеть огонь там, в конце дороги, на холмах. Мы приехали, и я увидел огромную толпу у нашего дома. Мы вошли. Все плакали, рыдали. Дом пропах дымом. Когда он загорелся, приехала пожарная машина. Кое-где была вода, но не слишком много.
Дело было так. Клара ставила утюг на старую керосинку, и в это время керосинка взорвалась. До этого Клара вычистила керосинку, потом заполнила ее горючей смесью и пролила немного себе на передник. Керосинка стала дымить, не горела, она открыла ее, чтобы посмотреть, в чем дело, и, когда воздух ударился о густой масляный дым, смесь загорелась и выплеснулась на нее. Столб пламени объял Клару и ударился в потолок, она, крича, пробежала через весь дом, выскочила во двор и дважды обежала его, пока сообразила броситься в высокую зеленую траву, чтобы пламя задохнулось. Соседский парень увидел ее, прибежал и помог затушить пламя. Потом он поднял Клару на руки, отнес в дом и положил на постель. Так она и лежала, когда я протиснулся в комнату сквозь толпу плачущих друзей и родственников.
Папа сидел в передней, обхватив голову руками; он почти ничего не говорил, только иногда повторял: «Бедная моя малышка Клара», и лицо его было красным и мокрым от слез.
Люди в доме, мужчины и женщины, говорили между собой о том, какой она была хорошей.
- Она убирала мой дом лучше меня самой...
- И так хорошо училась.
- Она скроила моему мальчику рубашку.
- Она заболела корью, потому что ложилась с моей дочуркой, чтобы она засыпала.
Пришла и Кларина учительница. Клара в тот день не пошла в школу, надо было помочь с глажкой. Они с мамой даже немного поругались из-за этого. Мама себя плохо чувствовала. А Клара хотела готовиться к экзаменам. Учительница пыталась ободрить маму рассказами о том, что Клара была первой ученицей в классе.
Я подошел к постели, где лежала Клара. Она держалась бодрее всех. Подозвав меня к себе, она сказала:
- Приветик, мистер Вудли-Дудли.
Она всегда так называла меня, когда хотела рассмешить.
Я сказал:
- Приветик.
- Видишь, все ревут, Вудли-Дудли. Папа чего-то повесил нос и плачет ...
- Ага.
- Мама вон в столовой все глаза выплакала.
- Я знаю.
- Даже старина Рой плакал, а он у нас такой отчаянный да смелый.
- Я видел.
- Слушай, Вудли-Дудли, обещай мне не плакать. Никогда. Это не помогает, а других расстраивает ...
- Я не плачу.
- Не надо, не надо. Мне совсем неплохо, Вудли; через день-два встану и буду играть с вами, чуть обожглась, вот и все; да что там, это со всеми бывает, и никому не нравится, когда кругом все от этого ревут. Мне будет совсем хорошо, Вудли-Дудли, если ты пообещаешь мне не плакать.
- Я не плачу, сестренка.
Это была правда. И это осталось правдой.
Я посидел минутку или две на краю постели, глядя на ее обожженную обуглившуюся кожу, которая превратилась в перекореженные, малиновые в волдырях рубцы, на ее в обуглившихся морщинках лицо и почувствовал, как что-то во мне оборвалось навсегда. Но я обещал ей не реветь, поэтому я погладил ее руку, улыбнулся ей, встал и сказал:
- Все будет в порядке, сестренка, ты не обращай на них внимания. Они просто ничего не понимают. Все будет в порядке.
Я тихонько побрел к крыльцу. Папа пошел вслед за мной. Он дошел до большого кресла-качалки, сел в него и подозвал меня к себе. Потом посадил меня н себе на колени и стал говорить снова и снова о том, какие мы славные дети и как плохо он обращается с нами, но больше этого не будет. Все это было неправдой. Он всегда был очень добр к своим детям.
Через несколько минут во дворе я здорово порезал руку ржавым ножом. Кровь так и хлестала. Я даже чуть-чуть испугался. Папа выбежал, увел меня в дом и перевязал рану. Он облил весь палец йодом. Щипало жутко. Я страшно морщился. Ужасно не хотелось, чтобы он мазал порез йодом. Но я обещал Кларе больше никогда не плакать. Она засмеялась, когда учительница рассказала ей об этом.
Через некоторое время я вернулся в спальню с забинтованной белой тряпкой рукой; мы еще немного поболтали. Потом Клара посмотрела на учительницу и, чуть улыбнувшись, сказала:
- Я сегодня пропустила урок, правда, миссис Джонсон?
Учительница попыталась улыбнуться и ответила:
- Правда, но ты все равно получишь грамоту, потому что меньше всех пропускала. Никогда не опаздывала, никогда не ленилась, никогда не прогуливала.
- Но я все выучила как следует, - сказала Клapa.
- Ты всегда прекрасно отвечаешь, - ответила миссис Джонсон.
- Как вы ... думаете ... я ... сдам ... экзамены?
Клара прикрыла глаза, словно задремала и увидела самые чудесные сны. Она глубоко вздохнула два или три раза, и потом я увидел, как все ее тело расслабилось и голова откинулась немножко вбок на подушке.
Учительница коснулась кончиками пальцев Клариных век, закрыла их и потом сказала:
- Да, ты сдашь.
Некоторое время казалось, что беда принесла нам много друзей, сплотила нашу семью, помогла нам лучше узнать друг друга. Но скоро стало ясно, что для мамы это испытание явилось последней каплей. Мама сломилась. Ей стало хуже, она вся дергалась; дважды или трижды в день с ней случались тяжелые припадки - она начинала сердиться на домашнюю утварь, потом обрушивалась с руганью на каждый стул и стол и вскоре кричала так громко, что соседи начинали беспокоиться. Я заметил, что каждый день она неотрывно смотрела минуту или две на оплавленный стеклянный шар размером в два кулака, которым пользовались, чтобы прижимать дверь.
- До того как сгорел наш семикомнатный дом, - говорила она мне, - это было двадцатидолларовое хрустальное блюдо, подарок, такой же красивый, как я когда-то. Но какое оно теперь перекореженное, нелепое. В нем больше не отражаются красивые цвета, оно перекрутилось и вывернулось, как все красивое, как моя жизнь! Боже, я хочу умереть! Хочу умереть! Сейчас! Сейчасl Сейчас! Сейчас!
И она била посуду и ломала мебель.
Мама всегда была одной из самых хорошеньких женщин во всем кpae; у нее были длинные вьющиеся черные волосы, которые она ежедневно два или три раза расчесывала щеткой по нескольку минут, хорошая фигура, круглое, пышущее здоровьем лицо и большие темные глаза. Она ездила амазонкой в стодолларовом седле на быстроногой черной кобыле, и рядом с ней на грациозном скакуне гарцевал папа. Люди говорили мне: «В то время на твоих папу и маму можно было заглядеться», но это звучало так, словно они вспоминали хороший старый фильм.
Мама все время думала о своих бедах. Она думала о них слишком много и не пыталась сопротивляться. Может, она не понимала, не знала, что можно сопротивляться. Может, она верила во что-то такое, невидимое, но всесильное, которое все вернет - и дом, и землю, и красивую мебель, и прислугу, и машину, в которой можно ездить по дорогам. Она всецело отдалась горю, пока оно не одолело ее. Об этом предупреждал врач. Он требовал, чтобы она собралась и уехала куда-нибудь, чтобы мы увезли ее - в такое место, где не будет переживаний и волнений. Она дошла до того, что кричала в голос, часами подряд говорила о том, что случилось. Она не знала, кого винить. Поэтому она обрушилась на папу. Решила, что виноват он.
Весь городок знал о ее беде. Она перестала следить за собой. Опустилась. Бродила по улицам с блуждающим взглядом, думая о чем-то и плача. Лицо у нее дергалось. Врач назвал все это сумасшествием и на том поставил точку. Мы, дети, слонялись по комнатам потерянные и молчаливые, часами не говорили ни слова, почему-то стыдились выйти на улицу играть с другими ребятами; нам не хотелось уходить из дому, пока продолжался очередной припадок, хотелось помочь маме. Она совсем потеряла координацию, тело не слушалось ее, во время припадков она валилась на пол, билась о него, как рыба, разрывала на себе одежду и кричала так, что люди слышали ее за несколько кварталов.
Потом на некоторое время она приходила в себя и была нам самой доброй мамой, и вдруг снова начиналось это - что-то плохое, ужасное. Оно наступало постепенно, исподволь. Лицо ее начинало дергаться, губы кривились, и обнажались зубы. Слюна текла изо рта, мама начинала говорить низким, рычащим голосом и постепенно переходила на такой крик, какой только могли выдержать ее свяки; руки постепенно сгибались и прижимались к бокам, потом скрючивались за спиной, выделывали странные, непостижимые кривые движения. Ее живот весь стягивался в твердый шар, она сгибалась в три погибели, а на спине вырастал страшный горб - передо мной с Роем, казалось, появлялся совершенно другой человек.
Когда я засыпал ночью, мне снилось, что все кончилось хорошо. Мне снилось, что у меня такая же мама, как у всех ребят. Но когда я просыпался, все было по-иному, вывернутое наизнанку, перекореженное, в беспорядке, дом неубранный, обеда нет, посуда грязная. Конечно, мы е Роем старались. Мы по очереди пытались вести дом, но мне было только девять лет, а Рою пятнадцать. То, что обычно делают ребята в этом возрасте, те игры, в которые они играют, те места, куда они отправляются купаться, шалить, бегать - все это для нас было чем-то случайным. Возможностью хотя бы на минуту отвлечься, забыть о том, что циклон разразился над нашим домом, рвет и терзает нашу семью, разбрасывает ее по ветру.
Мне тяжело так описывать мою собственную мать.
А вам тяжело читать такое о матери. Я знаю. Я вас понимаю. И я надеюсь, что вы поймете меня, потому что никуда не денешься от того, что должно быть сказано.
Нам пришлось выехать из этого дома. У папы не было денег, чтобы его оплачивать. Папа пошел ко дну, он сопротивлялся, но все-таки шел ко дну. Потерянный человек в потерянном мире. Все потерял. До последнего цента. Задолжал в десять раз больше, чем смог бы когда-либо заплатить. Отстав однажды, он не мог уже наверстать упущенного и вновь зашагать дорогой удач. Папа этого не знал. Он продолжал верить, что сможет постепенно проложить себе путь к нефтяным делам, сулившим десятки тысяч долларов, к купле-продаже ферм и земельных участков, к барышам и процентам. Короче, он сопротивлялся и дрался, но его не хватило. Это был конченый человек. Им он был ни к чему. Боссам. Они не хотели поддержать его. Он споткнулся однажды, упал и теперь летел, летел все глубже в пропасть.
Нам не хотелось никуда отправлять маму. Решили, что просто попробуем куда-нибудь переехать. Переедем и начнем жизнь сначала. В 1923 году мы собрались и двинулись в Оклахома-Сити. Переезжали на старом фордовском грузовике модели «Т». Вещей взяли немного. Хотелось перебраться в такое место, где нет знакомых, где, может быть, маме станет лучше. Ей стало лучше уже в дороге. Когда мы въехали в старенький дом на Двадцать восьмой улице, ей стало еще лучше. Она стала стряпать. Вкусно. Стала разговаривать. Было приятно слушать. Целые дни проходили без припадков. Для нас всех это был почти что рай. Нам, в общем, было наплевать на себя, хотелось только, чтобы она выздоровела. Она убирала дом, и стирала, и даже посеяла цветы, и следила за тем, как они прорастают. Она натянула вдоль окон тоненькие бечевки, и горошек обвил их и стал смотреть на нее сквозь стекла.
Папа решил продавать огнетушители. Он взял несколько штук и пытался продать их в многоквартирных домах. Но людям казалось, что противопожарных мер принято более чем достаточно, так что продажа шла туго. А между тем эти огнетушители были из самых лучших. И папе надо было платить за образцы, которыми он торговал. Ему удавалось толкнуть одну штуку в месяц, и он получал шесть долларов с каждой сделки. Он стоптал все свои башмаки, переходя из дома в дом. У нас не осталось почти никакой мебели. На стареньком примусе с двумя горелками для бобов и кофе мы иногда готовили кукурузную кашу и тем жили, но даже это не всегда могли себе позволить. Папа бросил огнетушители, потому что оказался плохим коммивояжером - не хватало в нем лоска и блеска. Он пообносился. Обувь разваливалась. Два или три раза он делал к туфлям новые подметки, но тут же опять их снашивал. Наверное, он думал о Кларе и нашем первом сгоревшем доме, когда таскал эти огнетушители по всему огромному горячему городу, который, в сущности, был таким холодным.
В овощной лавке папе удалось получить кредит. Они дали ему работу - помогать в лавке и развозить в фургоне заказы. Ему платили доллар в день. Я разносил молоко. Женщина, для которой я это делал, платила мне доллар в неделю.
Но у папы были больные руки, разбитые в многолетних кулачных боях. Неизвестно, почему мышцы его пальцев и рук вдруг стали сокращаться. С каждым днем они сжимались все больше, скрючивая его пальцы так, что он не мог разжать кулак. И ему пришлось пойти к врачу и отрезать мизинец на левой pуке, потому что мышцы так прижали его к ладони, что ноготь врос глубоко в мясо. Другие пальцы всё продолжали скрючиваться. Они мучили его без всяких перерывов, но он продолжал работать, таскал подносы, корзины, ящики и мешки овощей для тех, у кого были деньги, чтобы платить за все это. Он приходил домой пообедать совершенно без сил, валился на постель, и я видел, как он растирает руки, чуть не плача от боли. Я подходил и помогал ему. У меня руки были молодые, и они легко управлялись с твердыми натянутыми мышцами, которые потеряли былую гибкость и, следовательно, весь смысл своего существования. На суставах выпирали огромные узлы. Твердые, как хрящи. Ладони превратились в длинные жесткие мышечные жгуты, до предела натягивающие кожу. Виноваты во всем были драки. У папы были ломкие кости. А бил он крепко.
Раздробил пальцы. А теперь эта работа в овощной лавке - хуже не придумаешь для таких рук. Но он не мог особенно много думать о своих руках. Он думал о маме, о нас, детишках. Он собирался снова резать мышцы - глубоко, чтобы они отпустили его, чтобы больше не тянули. Одного их вида было достаточно, чтобы почувствовать страшную боль, которую он испытывал.
Иногда ночью, когда я лежал, не засыпая, он звал меня:
- Потри их, Вуди. Потри. Иначе я не могу спать.
Я брал его руки под одеялом и растирал их; я тер разбухшие хрящи на суставах и словно облитые цементом мышцы каждого пальца, мышцы, которые стягивали его руки с такой силой, что больше им было не разжаться. Мне хотелось плакать навзрыд, и я требовал, чтобы папа все говорил и говорил без конца. Это удерживало меня от слез.
- Что ты будешь делать, когда станешь взрослым мужчиной?
- Я хочу быть таким, как ты - самым сильным и драться лучше всех.
- Только не таким плохим, злым и никчемным. Я всегда размахивал кулаками неизвестно зачем и всегда проигрывал - был удачливее других в мелких уличных потасовках и проигрывал крупные драки.
Я продолжал тереть его руки и отвечал:
- Ты всегда был молодцом, папа. Ты сам решал, что хорошо, и каждый день дрался за это.
Мы прожили в Оклахома-Сити почти полгода, когда объявился мой дядя Леонард. Это был могучий высокий красавец, который все время дарил мне пятаки. Леонард отслужил свой срок в армии, где научился в числе других полезных вещей водить мотоцикл. Ему повезло, он получил место представителя компании, выпускавшей новенькую черную четырехцилиндровую модель «Туз».
В один прекрасный день Лeoнард въехал в наш двор на черном мотоцикле с блестящей коляской, отделанной никелем; она сияла, как здание Конгресса штата. Он привез хорошие вести.
- Ну, Чарли, теперь конец твоим с Норой неудачам, у тебя будет отличная работа. Ты всегда был хорошим администратором, умел составлять письма, следить за расходными книгами - одним словом, держать дела в порядке; так вот, ты назначен главой всех этих дел оклахомского филиала мотоциклетной компании «Туз». Будешь получать около двухсот долларов в месяц.
Мир стал вдвое шире и вчетверо светлей. Цветы стали ярче, выше, их стало больше. Солнце заговорило, а луна запела тенором. Горы затеяли веселую возню, реки отправились на пикник, а огромные секвойи устраивали по ночам танцульки. Леонард дарил мне пятаки. Я ел вкусные конфеты. Играл апельсином, пока он не становился мягким и сочным, И потом ел и целовал его. Рой улыбался и рассказывал безобидные анекдоты. Ребята повалили к нам валом. Я снова стал человеком с положением. Они перестали кидаться на меня по двум причинам: одному я набил морду так, что он еле ноги унес, а другие хотели прокатиться на мотоцикле.
Настал великий день. Папа с Леонардом сели на мотоцикл и с ревом понеслись вниз по улице на работу. Собралась большая толпа. Было на что посмотреть.
Следующим днем былo воскресенье. Мебели у нас все еще не было, но в последнее время стало немного лучше с едой. Не знаю, можно ли было в то утро найти более счастливую семью, чем наша. Мы приготовили и съели вкусный обед, и папа вышел купить воскресную газету за десять центов. Он вернулся с пачкой сигарет, одна уже торчала ,у него во рту, прошел в спальню, лег, укрылся и стал читать комиксы в газете, время от времени хохоча. Сперва он прочитал все комиксы. Потом стал читать новости.
Вдруг он сбросил с себя все газеты, вскочил и стал озираться как сумасшедший. Он только что прочитал раздел новостей на второй странице, и что-то как будто опустошило его, лицо побелело и стало похоже на пустой киноэкран. Он встал. Прошел через весь дом. Не знал, что делать, что говорить. Прочитать нам это? Промолчать? Забыть? Сжечь газету и выбросить пепел? Убить газету? Разрушить весь дом! Весь мир! Переделать его, чтоб он стал правильным, хорошим! Он не мог говорить.
Рой посмотрел газету и тоже некотороe время ничего не мог сказать, и тогда папа проговорил:
- Маму, позови маму!
- Мама, иди сюда на минуту ...
Рой привел ее, усадил рядом с папой на скрипучей постели и потом тихо прочитал что-то в этом роде: «Мотоциклетный ас гибнет в катастрофе. Чикаша, Оклахома. Леонард Таннер, мотоциклист из фирмы «Туз», погиб мгновенно вчера днем при столкновении мотоцикла и автомобиля на перекрестке. Таннер ехал со скоростью около сорока миль в час, тем самым нарушив правила движения. Он врезался в крыло фордовского «седана» образца 1922 года и размозжил себе голову. Мистер Таннер собирался впервые открыть собственное дело, когда беда настигла его на перекрестке жизни».
Я вышел во двор и, потерянный, остановился в бурьяне, когда вдруг не меньше двадцати ребят появились на дороге и вприпрыжку направилась к нашему дому. Ко мне они подошли уже более спокойной походкой.
- Слушай! Как насчет мотоцикла? Ты обещал прокатить нас, - сказал главный, сося леденец и озираясь в поисках большой черной машины.
Я прикусил язык, а они, перебивая друг друга, загалдели: «Мы пришли покататься!», «Где машина'?», «Ну, давай!»
Я побежал назад, сквозь высокую траву, к аллее позади дома, а они за мной.
«Нет у него никакого дяди с мотоциклом!», «Врун!», «Сука лживая!»
Я сгреб горсть камней и швырнул их в ребят.
- Катитесь отсюда! И не приходите больше! Кто врет? Был у меня дядя с мотоциклом! Был! Но ... но ...