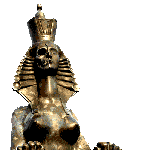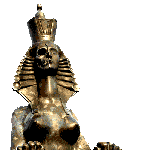ИГОРЬ МИХАЙЛОВ
Игорь Леонидович Михайлов родился в Петербурге в семье врача. В 1937 году окончил филологический факультет Ленинградского университета. Работал учителем. Был призван в армию. Осужден на три года «за антисоветскую агитацию». Срок отбывал в Печлаге (судя по датировке стихов — включая 1942 и 1943 годы). В 1944—1945 годах работал на строительстве авиазавода в республике Коми. Затем — в школе рабочей молодежи, в системе народного образования, журналистом в Таганроге. В 1957 году вернулся в Ленинград. Стихи Игоря Леонидовича опубликованы в десятках авторских сборников.
ТЮРЕМНАЯ ЭПОПЕЯ
(Отрывок)
Вся камера была полна
железом, мертво бесполезным:
дверь, пол, окно, кровать, стена
облиты были льдом железным.
Одна параша, как ни странно,
была зачем-то деревянной.
Войдя, я тумбочку открыл.
Тут мой предшественник забыл
бумаги масленой клочок
да горстку соли, что в платок
была завязана. Кругом —
окурки, крошки... В руки мне
попалась книга на окне:
«Владимир Лидин. Пятый том».
Жилец недавний, кто он был?
Растратил ты или убил?
Или принадлежишь ты к тем,
кто вечно недоволен всем?
А может, друг армейский мой,
что арестован был со мной?
Я постепенно привыкал
к тому, что арестантом стал,
что непростительнейший грех
мне звать «товарищами» тех,
кто не успел в тюрьму попасть
и в чьих руках закон и власть
(их должен звать несчастья сын
официальным «гражданин»);
что должен руки заложить
ты за спину; что только так
отныне будешь ты ходить
и сзади слышать тяжкий шаг
сапог подкованных. Ты — «враг».
Ты — «контрик». Ни о чем
с тобой не вправе говорить конвой.
Я постепенно привыкал
к тому, что сиротою стал,
к тому, что время забывать
свою семью, отца и мать,
что без меня им увядать,
а мне их — век не увидать...
ПИСЬМО СТАЛИНУ
Зажатые железными тисками,
боясь вглядеться в предстоящий мрак,
да, мы писали Сталину из камер.
Свидетельствую: это было так.
Писали и за совесть, и за страх,
кто движим верой, кто томим сомненьем...
Я лично написал письмо в стихах,
именовавшееся заявленьем.
Быть может, веря страшной силе строк,
надеялся я словом сдвинуть горы
иль просто ухватился за предлог
облечь в стихи моленья и укоры...
О чем писал я? Что, наверно, он
не ведает, заваленный делами,
о тех, кто нагло растоптал закон
тяжелыми тупыми сапогами;
что у меня поэма на уме,
а я на глупости теряю время;
что дико в собственной сидеть тюрьме,
уж пусть в фашистской — грешен перед теми;
что, понеся подобные убытки,
не сможет вновь разбогатеть душа;
что для поэта нет больнее пытки
жить без бумаги и карандаша...
Пусть он прикажет.
Пусть без промедленья
мои попавшие в капкан года
отпустят...
Смехотворней заявленья
Лубянка не читала никогда.
И следователь мой, суров весьма,
сказал с наигранным негодованьем,
что, мол, разит от этого письма
антисоветчиной на расстоянье.
И, брови рыжеватые нахмуря,
добавил, в папку положив письмо:
— Дать лучший материал прокуратуре
ваш самый злейший враг — и то б не смог.
Наверно, и сейчас в моем досье
оно хранится — вроде анекдота —
как старенькое выцветшее фото
моей наивности во всей ее красе.
* * *
То тяжкое, что было на веку,
пожизненно гнетет воображенье,
и снятся до сих пор фронтовику
окоп, атака, ужас окруженья;
блокаднику — бомбежка, и скольженье
с ведром к воде, где труп вмурован в лед,
и метронома мерное движенье,
ведущее минутам жизни счет...
А мне — бредущий сквозь пургу этап,
и гибель тех, кто болен или слаб,
и хлюпанье болота под лежневкой,
стрелок на вышке, бдительный конвой,
и шмон, и вставший на поверку строй,
и автомат, что взят на изготовку...
АНГЕЛЫ
Кто утверждает, будто в наши дни
нет ангелов? Есть ангелы. Но чаще
не в райской куще, а в дремучей чаще,
в аду кромешном водятся они.
Я знал их за Печорой, в лагерях,
в обители пропащих и увечных.
Легки, светлы, крылаты, человечны —
отбрасывали все: брезгливость, страх...
Их заклеймили дикой кличкой ЧСИР,
семьи лишили и надежды всякой...
Их вывезли из городских квартир,
чтоб поселить среди болот в бараках...
Любую боль умея понимать,
они ходили за чужими нами,
как за мужьями или сыновьями
жена не всякая и не любая мать.
Здесь жизнь была ничтожна и убога,
а смерть разнообразна и щедра.
Спасенья не молила нам у Бога
ниспосланная Берией сестра.
Она сама спасала нас. А если
в десятый раз уже мы не воскресли,
на сердце полумертвое живая
рука ложилась, как ответ на SOS,
и слышала щека, охладевая,
горячий дождь ее горючих слез...
А у воскресших воскресала вера
в людей и в жизнь: казалось — близок дом.
Кто говорил, что ангелы — химера?
Я сам их видел.
Лично был знаком!
БОРИС ТЕПЛИНСКИЙ
1899-1972
Борис Львович Теплинский родился в Киеве в семье актера. Закончил Кадетский корпус в Гражданскую войну воевал в рядах Красной Армии, был одним из первых «красных авиаторов». Создал учебник летного дела, по которому училось несколько поколений летчиков в СССР и за рубежом.
В 1942 году в звании генерал-майора был арестован и девять лет провел в тюрьмах главным образом в одиночных камерах. Десятый год — в лагере.
После реабилитации в 1956 году являлся экспертом по проблемам авиации и ракетостроения, а также вице-президентом Общества советско-канадской дружбы.
* * *
Безрадостна моя дорога,
И тяжко жизни груз влачить.
Друзей в боях погибло много,
Зачем же я остался жить?
Разбито все — и честь и счастье,
Жизнь беспросветна и темна,
Как поздней осени ненастье
У незакрытого окна...
1946
Пожелтевшие с детства знакомые ноты —
Прошлой жизни моей дорогие друзья,
Равнодушное время ведет свои счеты,
И давно вы состарились так же, как я.
Много лет вы напрасно меня ожидали,
Побеленные пыли покровом седым.
И — кто знает — удастся ль коснуться рояля
Позабывшим о клавишах пальцам моим...
ИЗ ПОЭМЫ «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА»
Я против истины не погрешу,
Когда скажу, хоть это и не ново,
Что не чернилами стихи пишу,
А кровью сердца моего больного.
Придраться к этой фразе здесь нельзя,
Хоть это лишь манера выраженья,
И откровенно вам признаюсь я,
Что в ней не много преувеличенья.
Я это выраженье применил
По очень основательной причине:
В тюрьме ведь ни бумаги, ни чернил,
Конечно, не бывает и в помине.
Угодно коль, сходи себе с ума,
Записок только не пиши об этом.
Тут можно даже сделаться поэтом —
Вот до чего доводит нас тюрьма!
И я хоть погибаю в одиночке,
Дела мои совсем уже плохи,
Но все ж в уме слагаю я стихи,
Хоть за всю жизнь не написал ни строчки.
Апрель 1951
* * *
Сегодня и в мое оконце
Весна послала мне привет,
Хотя чернеет против солнца
В окне решетки силуэт.
А на прогулке одинокой
Мне ясно слышен за стеной
Весенний гул Москвы родной,
И близкой и такой далекой!
Не для меня очарованье
Весны красот, ее чудес,
И птичий гам и щебетанье,
И даль прозрачная небес.
Травы весенней в поле всходы,
И буйный вешних вод поток,
И пряно пахнущий свободой
Весенний теплый ветерок.
Не нужно, нет! Уж лучше снова
Туда, где между стен сырых
Весеннего не слышно зова,
Небес не видно голубых.
К чему свободы голос властный,
Коль недоступна мне она?
Уйди, молю тебя, весна,
И не буди мечты напрасной.
Зачем ты вновь на волю манишь?
Ведь ты опять меня обманешь!
Ты к жизни новой и свободной
Манишь надеждою бесплодной,
Суля мне счастье впереди,
Когда я стал больным и хилым.
Когда мне жизнь сама постыла...
Уйди, обманщица, уйди!
1952
Тюрьма моя за городом далеко,
И часто на прогулке вижу я,
Как реет в синеве небес глубокой
Проворных истребителей семья.
И напряженно жадными глазами
С тоской гляжу я вслед им до тех пор,
Пока не затуманится слезами
Отвыкший от небесных далей взор.
Аэродромов, видно, здесь немало —
И тех, что я в дни молодости знал,
А может быть, и тех, где я, бывало,
В года свои свободные летал.
И, в небеса лазурные взлетая,
Чертя крылом простор их голубой,
Не думал ведь в те годы никогда я,
Что здесь мой путь проходит над тюрьмой.
И может быть, как я теперь с тоскою
Гляжу на голубые небеса,
Мне узник вслед глядел, прикрыв рукою
Свои в тюрьме померкшие глаза.
Так сокол, погибающий в неволе,
На небо недоступное глядит
И взором, затемненным смертной болью,
За братьями свободными следит.
1952
АРБИ МАМАКАЕВ
1918-1958
Основоположник чеченской литературы. Родился в семье учителя в селении Нижний
Наур Надтеречного района Чечни. Окончив неполную среднюю школу, учился на рабфаке в Грозном, а затем в Серноводском педагогическом училище. Ему не было еще
И шестнадцати лет, когда в печати начали появляться его стихи. В 1938 году Мамакаев
был принят в члены Союза писателей СССР. Многие его стихи стали народными песнями. Его избирают секретарем Союза писателей Чечено-Ингушетии. В 1941 году публикуется его поэма «В горах Чечни» (на русском «В родных горах»), а в 1942 году поэт
падает под каток сталинских репрессий. На свою беду, Мамакаев любил творчество
Сергея Есенина, чувствовал духовное родство с ним. Перед самой войной он работал на радио в Грозном. Один из его друзей как-то пошутил: «Да, разошелся наш
Есенин. По республиканскому рупору имя Арби Мамакаева произносится чаще, чем
«имя товарища Сталина». Легендарный танцор Махмуд Эсамбаев вспоминает: «Арби
был баловнем судьбы, поэтом от Бога. Мы все любили его. ...Щедрый, добрый, он мог
снять с себя все и отдать. Когда начали его таскать в НКВД и должны были арестовать,
мы прятали его на крыше дома почти десять дней... Но Арби это надоело, и он сам
пошел к ним».
Его осудили на десять лет лагерей по статье 58-1 — «за измену Родине». Потом срок добавили. Арби прошел через тюрьмы Махачкалы, Красноводска, Ташкента. Однажды в лагере Арби попытался вместе со своими собратьями-чеченцами сделать подкоп для побега и организовал массовые протесты заключенных. Ему добавили срок и перевели сначала в Читинскую область, а потом в Магадан. В 1956 году Мамакаев вышел на свободу, в 1957 году — вернулся в Грозный. В 1958 году в газете «Ленинский путь» была опубликована повесть Арби Мамакаева «В родной аул» о гражданской войне на терской земле. Критик-чиновник увидел в ней прямой намек на депортацию чеченского народа. Арби поместили в палату республиканской психбольницы. Тогда стало правилом помещать инакомыслящих в подобные «профилактории». Друзьям удалось освободить писателя. 26 августа 1958 года в неполные сорок лет он скончался от разрыва сердца.
ТЕРЕК
С гор высоких, где клубятся тучи,
Ты сбегаешь, Терек мой кипучий.
Оглушен, стою на берегу:
Ты по-волчьи воешь на бегу.
Ты стрелой вонзаешься в ущелье,
Там находишь ты свое веселье.
А потом, вдали от крутизны,
Горделиво катишь валуны.
Ты прорежешь горные отроги,
Станешь полноводным по дороге,
Примешь вкус моей родной земли.
Синий Каспий ждет тебя вдали.
На излуке вал играет звонкий
И бегут глубокие воронки.
Ты мне кружишь голову, когда
Предо мной гудит твоя вода.
Перевод с чеченского А. Тарковского
ЗИМА
Бабочками кружатся
Долги ночи темные,
Крупные снежинки,
Занесло тропинки,
Замерзает лужица,
И растет ледок;
И метель бездомная
Воет, как щенок.
Наш ручей, вчера еще
Певший, точно птица,
Словно засыпающий,
Дышит подо льдом,
Всходит солнце красное,
А светить — скупится,
Облака ненастные
Обступили дом.
Выглядели весело
Шумные селенья;
Белым их завесила
Снежная зима.
Видишь, как сутулятся,
Хмурятся строенья?
Поседела улица,
В шапках все дома.
Сани за воротами,
Много дел на брата.
Зимними работами
Занят наш колхоз.
Машут рукавицами
На катках ребята.
Всех их краснолицыми
Сделал дед-мороз.
Перевод с чеченского А. Тарковского
ВЕЧЕР
Терек, бурливый Терек!
Зелен пологий берег.
Скрыт островок высокий
Зарослями осоки.
Горлица в роще стонет.
Ястреб в лазури тонет.
Тучка плывет несмело.
Солнце, пылая, село.
Девушка в платье длинном
Сходит к воде с кувшином.
Катятся волны мимо.
Вышел джигит к любимой.
Долго бродить влюбленным
По берегам зеленым,
Прошлое вспоминая,
Радуясь дням грядущим.
Стелется мгла ночная,
Смотрит в глаза идущим.
Перевод с чеченского А. Тарковского
ИЗ ПОЭМЫ «АСЛАГА И САЛИХАТ»
ПЕСНЯ В ЛЕСУ
Мертвых камни гробовые
К жизни вновь не возвратят,
Наши матери седые
Нас вторично не родят.
Не сладка любовь без воли,
И не радоваться той,
Чей любимый дремлет в поле,
Насмерть раненный стрелой.
НИЖНИЙ НАУР
Мы расстались. В день разлуки
Был я мал, мне шел восьмой.
Мать ко мне простерла руки:
«Будь же счастлив, мальчик мой!»
Видел я другие реки,
Слышал смех других людей.
«Не увидеть мне вовеки
Милой родины моей!»
Я, влюбленный от рожденья
В мой Наур, бывал во сне
В саклях нашего селенья.
Игры детства снились мне.
А теперь я вижу снова
Берегов родных простор,
Годы детства золотого
Затуманили мне взор.
Я на Терек и на стены
Сакли нашей вновь гляжу,
И большие перемены
Я в Науре нахожу.
В новой праздничной одежде
Ты еще светлей, чем был.
Я тебя сильней, чем прежде,
Взрослым сердцем полюбил.
Перевод с чеченского А. Тарковского
НИКОЛАИ ЛУЧНИК
1922-1993
Николай Викторович Лучник родился в Ставрополе в семье профессора биологии. После окончания школы с отличием Николай в 1 939 году поступил на механико-математический факультет МГУ, но вскоре перевелся на биофак, решив идти по стопам отца. И вопреки превратностям судьбы он стал крупным ученым, известным в нашей стране и за рубежом.
Еще в школе Николай Викторович увлекался поэзией и сам писал стихи. Увлечение это продолжалось и в студенческие годы в МГУ. Он был членом студенческого литературного объединения и публиковал свои стихи в университетских сборниках.
После окончания второго курса началась война, и Николай Лучник пошел в армию. Служил в Иране, затем был отправлен в военкомат в Ставрополь для нового назначения, но там попал под кратковременную оккупацию и после освобождения города был, как многие, арестован и осужден на 1 0 лет лишения свободы и 5 лет ссылки.
В лагере он сочинил много стихов, некоторые ему удалось вспомнить и записать после освобождения и реабилитации. Частично они опубликованы посмертно в книге Н. В. Лучника «Вторая игра» (М.: Компания Спутник*. 2002). В ней опубликованы также его прозаические и литературно-философские и богословские произведения и эссе.
Андрей Лучник
НЕБЫЛИЦА
Чистит Небылица в изумрудных перьях
Об оконную решетку клюв.
Да, я жив, и светлым сказкам верю,
И кого-то, кажется, люблю.
Под моим окном танцуют кони,
За моим окном смеются звезды,
Пальмы, сосны, кактусы и гнезда
Райских, мною выдуманных птиц.
Кто-то в белом платье на балконе...
Мир таков, каким он мною создан —
Без заборов, горя и границ.
На моем пути годов громада
И событий длинные ряды.
Я не верю больше хиромантам, —
Знаю сам, что будет впереди.
Знаю сам про дальние дороги.
Эти — лишь азы.
Про домов казенные пороги
Не соврут бубновые тузы.
Будет ночь — длиннее, чем экватор,
Будет ночь — как обморок и смерть.
Много тюрем, лагерей и каторг —
Более тяжелых, чем теперь.
Будет много разноцветных магий,
Будет бденье над листом бумаги,
То, чего не выдержит любой.
Будет призрак кафедры и парты,
Будет ревность к Бору и Декарту
И победа над самим собой.
Я вернусь, сомнения рассеяв,
Победивши в битве с нищетой.
Я вернусь, подобно Одиссею.
И не на щите, а со щитом.
Расцветут и воплотятся сказки
Папоротником в Большой Ночи.
Я легендой до немоты связан,
Я ее до слова заучил:
Лес. Покрыт. Росистыми. Слезами.
(Это для начала. А потом:)
Я поеду потихоньку в замок
В рыцарском уборе золотом.
И тогда увижу (нет, не снится):
В белом платье ждет меня она —
Та, о ком кричала Небылица,
Сев на край сурового окна.
1943-1947.
Начато в тюрьме, закончено в лагере.
ФЕДОТ СУЧКОВ
1915-1991
Федот Федотович Сучков. В одном лице ваятель и поэт... Он поступил в Литературный институт в 1939 году, закончил его в 1958-м. В невольном «академическом отпуске» с 1942 по 1955 год проходил «университеты» ГУЛАГа. Его мемуарная эссеистика иллюстрирована созданными им же скульптурными портретами таких замечательных русских писателей, как В. Шаламов, Ю. Домбровский, А. Солженицын, А. Платонов.
Из аннотации к книге Федота Сучкова «Бутылка в море» (М.: Книжная палата, 1991).
ПАМЯТЬ
Ю. Кублановскому
Помню свинушки, синюшки, чернушки.
Помню гляделки соленой корюшки.
Помню холодные ноги подружки.
Помнятся мертвые сны без подушки.
Помнятся тертые речи и встречи,
окрики, хлеще секущей картечи,
муть затирушек, немытые миски,
в мусорных ямах турнепса очистки...
Многое помнится... И в одиночке
был я, должно быть, рожденным в сорочке.
* * *
Моя любовь сошла с ума.
И я, наверно, сумасшедший.
Ведь с каждым днем все легче, легче
моя дырявая сума.
И с каждым часом без натяжек
горжусь я легкостью такой.
Я говорю: мой крест не тяжек,
поскольку он внутри пустой.
И я иду с прямою выей,
с поднятой к небу головой,
счастливей всех, себя счастливей
и самому себе конвой!