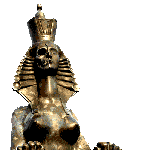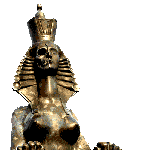|
Михаил ФРОЛОВСКИЙ, Варлам ШАЛАМОВ
|
МИХАИЛ ФРОЛОВСКИЙ
1895-1943
Михаил Иванович Фроловский происходил из дворянской семьи. В 1916 году окончил Александровский лицей.
1919—1921 годы — служба в Красной Армии.
1 925 год — первый арест, три года на Соловках, потом — в ссылке.
1940 год — заочно окончил Московский инженерный институт.
1941 год — второй арест. Умер в Карлаге.
* * *
Тяжело сдавили своды,
Тяжело гнетет тюрьма,
Мутным призраком свободы
За решеткой дразнит тьма.
Спит тюрьма и трудно дышит,
Каждый вздох — тоска и стон,
Только мертвый камень слышит,
Ничего не скажет он.
Но когда последней дрожью
Содрогнется шар земной,
Вопль камней к престолу Божью
Пронесется в тьме ночной.
И когда, трубе послушный,
Мир стряхнет последний сон,
Вспомнит камень равнодушный
Каждый вздох и каждый стон.
И когда последний пламень
Опалит и свет, и тьму,
Все расскажет мертвый камень,
Камень, сложенный в тюрьму.
Спит тюрьма и тяжко дышит,
Каждый вздох — тоска и стон,
Неподкупный камень слышит,
Богу все расскажет он.
Великий четверг. 1925
КРЕСТЫ
В морях, где румпель морехода
Не вел ни разу корабля,
Где бьется в камни непогода,
Где в лед закована земля,
Там в пламени зари морозной
Над угловатою скалой
Глядится в море призрак грозный
Три тени смотрят в мрак ночной.
Три крестных тени недвижимы
Над грудой серых валунов,
И море, страж неумолимый,
Хранит их в сумраке веков.
Хранит в пустыне бездорожной
Их моря пенящийся вал,
И белых чаек крик тревожный
Не оглашает черных скал.
Но в час последнего призыва
К безлюдным, тихим берегам
Волной великого прилива
Мы все сольемся к трем крестам.
Из недр земли, со дна пучины
Немой, испуганной толпой,
Комки проснувшиеся глины,
Мы соберемся под скалой.
На неприступные ступени
Поставим влажную стопу,
И трех крестов большие тени
Накроют бледную толпу.
1926
ПРОЩАНИЕ С ИЗБОЙ «ГОРОДОК»
Тебе, прокопченной избе косарей,
Я кланяюсь низким поклоном
За черную стену декабрьских ночей,
Молчанья пронизанных звоном.
За шум исковерканных ветром берез,
Замученных нордами елей,
За редкое солнце, за крепкий мороз,
За арии диких метелей.
За первые капли дождя на крыльцо
В тумане весеннего пара,
За ветер колючий, покрывший лицо
Коричневой маской загара.
За стоны приливом изломанных льдин,
За дни без ночей и рассвета,
За первые почки у нежных осин,
За ласку короткого лета.
За то, что среди оскорбленных святынь,
Не ведая горькой утраты,
Святыню далеких, безлюдных пустынь
Доселе одна сберегла ты.
Я ей поклонился под кровлей твоей,
Курная изба стариков косарей.
1927
* * *
Я хочу к тебе вернуться прежним,
Прежним быть, как много лет назад.
Не гляди, что время неизбежно
Заостряет мой спокойный взгляд.
Стал смелее, тише и суровей,
Стал суровей, может быть, добрей.
Слишком много потеряло крови
Мое сердце в этой смуте дней.
Но зато по-новому быть нежным,
Нежным быть могу — но не с тобой,
Я с тобой хочу остаться прежним
Мальчиком с большою головой.
10 апреля 1928
ПЕРЕСЫЛКА
От свистка до свистка, от шести до восьми,
От решетки к железной решетке
Ходят, мечутся бывшие раньше людьми,
А сегодня — табун в загородке.
Ноги, ноги и ноги стучат на полу,
А в глазах — промелькнувшие дали.
И слова — как зола, но не трогай золу,
Под золой — красный уголь печали.
Ходят, мечутся, ждут, говорят, говорят,
Ждут, как скорбные тени Гомера,
Что живой Одиссей отопрет этот ад,
Где стучится их скорбная вера.
Отопрет и вернет этим теням тела
С теплой кровью, костями и кожей.
Ходят, мечутся, ждут... И слова — как зола,
И глазами, как братья, похожи. Свердловск.
7 июня 1928
РЕКА ГУЛЯЕТ
Опять, молодая и злая,
Широко гуляет река,
Кидая, швыряя, ломая
И с неба ловя облака.
Летят очумелые льдины,
Ломая мосты, как забор.
Справляет река именины,
Выходит река на простор.
Чтоб вором пройтись по амбарам,
Трепать жеребенком стога
И, пристань сорвав под товаром,
Его раскидать по лугам.
Хоть будут мальчишки босые,
Забыв о прошедшей беде,
Искать голыши расписные
В спокойной июльской воде,
И спину согнуть ледяную
Придется под скрипом саней
И слушать, как песню глухую
Декабрь запевает на ней.
А нынче, забыв про похмелье,
Про долгие зимние сны,
Скорее навстречу веселью
Широкой, жестокой весны.
12 мая 1928
* * *
Приди. Тебя зовет тоскующее тело.
Я о душе молчу, души уж больше нет.
Она гостит сейчас у тихого предела,
Где царствует прозрачный синий свет.
И с телом я один. Молчу и изнываю —
Пусть будут говорить объятья дерзких рук.
В слезах — в них просьбы нет. Теперь я это знаю,
И лжет обманчивый и лицемерный звук.
Вся правда только в том, чтоб с теплым телом тело,
С горячей грудью грудь сплелись в один комок,
Пока не встанет вновь у светлого предела
Нежданным пламенем спасительный восток.
22 августа 1929
СЫНУ, КОТОРЫЙ БУДЕТ
Я тебя не вижу и не знаю,
Мой в земле таящийся алмаз,
Но в глазах любимых я читаю
Новый блеск мужских спокойных глаз.
Это я, но только помоложе,
Это дед, но только посильней,
Это кровь моя под новой кожей,
Смуглой кожей матери твоей.
1931
ВАРЛАМ ШАЛАМОВ
1907-1982
Варлам Тихонович Шаламов родился в Вологде в семье священника. С детства воспринял идеи служения добру и людям. Но в 1918 году на его глазах прервалась связь времен: вчерашние прихожане сшибали кресты с церквей.
В 1923 году Шаламов блестяще окончил школу, но высшее образование было не для него, сына священника. В 1926 году он поступил все-таки по свободному конкурсу в Московский университет, но через два года был отчислен за «сокрытие социального происхождения». Вместе с университетскими друзьями, не будучи ни членом партии,
даже комсомольцем, поддерживал внутрипартийную оппозицию, участвовал в демонстрации под лозунгом «Долой Сталина!». В ту пору он верил, что отстранение Сталина от власти принесет стране свободу. «Я был участником огромной проигранной битвы за действительное обновление жизни», — напишет он спустя десятилетия.
19 февраля 1929 года Шаламов был арестован у входа в подпольную типографию, осужден на три года концлагерей и отправлен на Северный Урал в Вишерский лагерь. В 1932 году вернулся в Москву, работал в профсоюзных журналах, но ясно понимал, что судьба его предрешена. В январе 1937 года он был вновь арестован и осужден Особым совещанием НКВД на пять лет заключения. Этот срок в 1943 году был продлен еще на десять лет.
С 1937 по 1951 год Шаламов находился в лагерях Колымы. Работал на золотых приисках и в угольных шахтах. Много раз «доходил» — погибал от холода и голода, его спасали лагерные врачи Нина Савоева и Андрей Пантюхов, который в 1946 году направил его на фельдшерские курсы.
Начало своей литературной работы Шаламов относит к 1928 году. С тех пор она не прекращалась — даже в лагерях. Долгие годы, лишенный возможности записывать свои стихи, хранил их в памяти. При жизни Варлама Тихоновича в СССР вышли лишь пять небольших сборников его стихов, искалеченных цензурой.
«Колымские рассказы», созданные им в ссылке и в Москве, куда он смог вернуться в 1956 году после реабилитации, не предназначались для советской печати — в них этот высокий, сутулый, глуховатый, знающий свое предназначение старик библейски полно свидетельствует о советской каторге. Теперь, посмертно, они принесли ему всемирную славу.
ПОЭТУ
(Отрывок)
Борису Пастернаку
В моем еще недавнем прошлом,
На солнце камни раскаля,
Босые, пыльные подошвы
Палила мне моя земля.
И я стонал в клещах мороза,
Что ногти с мясом вырвал мне,
Рукой обламывал я слезы,
И это было не во сне.
Там я в сравнениях избитых
Искал избитых правоту,
Там самый день был средством пыток,
Что применяются в аду.
Я мял в ладонях, полных страха,
Седые потные виски,
Моя соленая рубаха
Легко ломалась на куски.
Я ел, как зверь, рыча над пищей.
Казался чудом из чудес
Листок простой бумаги писчей,
С небес слетевшей в темный лес.
Я пил, как зверь, лакая воду,
Мочил отросшие усы.
Я жил не месяцем, не годом,
Я жить решался на часы.
И каждый вечер, в удивленье,
Что до сих пор еще живой,
Я повторял стихотворенья
И снова слышал голос твой.
И я шептал их как молитвы,
Их почитал живой водой,
И образком, хранящим в битве,
И путеводною звездой.
Они единственною связью
С иною жизнью были там,
Где мир душил житейской грязью
И смерть ходила по пятам...
СТЛАНИК
Л. Пинскому
Ведь снег-то не выпал. И, странно
Волнуя людские умы,
К земле пригибается стланик,
Почувствовав запах зимы.
Он в землю вцепился руками,
Он ищет хоть каплю тепла.
И тычется в стынущий камень
Почти неживая игла.
Поникли зеленые крылья,
И корень в земле — на вершок!..
И с неба серебряной пылью
Посыпался первый снежок.
В пугливом своем напряженье
Под снегом он будет лежать.
Он — камень. Он — жизнь без движенья,
Он даже не будет дрожать.
Но если костер ты разложишь,
На миг ты отгонишь мороз,—
Обманутый огненной ложью,
Во весь распрямляется рост.
Он плачет, узнав об обмане,
Над гаснущим нашим костром,
Светящимся в белом тумане,
В морозном тумане лесном.
И, капли стряхнув, точно слезы,
В бескрайность земной белизны,
Он, снова сраженный морозом,
Под снег заползет — до весны.
Земля еще в замети снежной,
Сияет и лоснится лед,
А стланик зеленый и свежий
Уже из-под снега встает.
И черные, грязные руки
Он к небу протянет — туда,
Где не было горя и муки,
Мертвящего грозного льда.
Шуршит изумрудной одеждой
Над белой пустыней земной.
И крепнут людские надежды
На скорую встречу с весной.
ГОМЕР
Он сядет в тесный круг
к огню костра меж нами,
протянет кисти рук,
ловя в ладони пламя.
Закрыв глаза и рот,
подобье изваянья,
он медленно встает
и просит подаянья.
Едва ли есть окрест
яснее выраженья,
чем этот робкий жест,
почти без напряженья.
С собой он приволок
заржавленную банку,
походный котелок,
заветную жестянку.
Изгибы бледных губ
в немом трясутся плаче,
хлебать горячий суп —
коварная задача.
Из десен кровь течет,
разъеденных цингою, —
признанье и почет,
оказанный тайгою.
Он в рваных торбазах,
в дырявых рукавицах,
и в венчиках-слезах
морозные ресницы.
Стоит, едва дыша,
намерзшийся калека.
Поднимет не спеша
морщинистые веки.
Мирская суета —
не веская причина —
хранит молчанье рта,
зажав его в морщины.
И в голосе слышна
пронзительная сила,
и пенная слюна
в губах его застыла.
Он — музыка ли сфер,
гармония вселенной?
Бродячий Агасфер,
ходячий труп нетленный?
Он славит сотый раз
паденье нашей Трои.
Гремит его рассказ
о подвигах героя.
Гремит его рассказ
почти косноязычный,
гудит охрипший бас,
простуженный и зычный.
А ветер звуки рвет,
слова разъединяя,
пускает в оборот,
в народ перегоняя.
То их куда-то вдаль
забрасывает сразу,
то звякнет, точно сталь,
подчеркивая фразу.
Что было невпопад
иль слишком откровенно,
отброшено назад,
рассеяно мгновенно.
Вокруг гудит оркестр,
из лиственниц латунных
натянутых окрест,
как арфовые струны.
А ветер — тот арфист,
артист в таком же роде,
что вяжет вой и свист
в мелодию погоды.
Поет седой Гомер,
мороз дерет по коже.
Частушечный размер
гекзаметра построже.
Метелица метет
в слепом остервененье.
Седой певец поет о
гневе и терпенье,
о том, что смерть и лед
над песнями не властны.
Седой певец поет.
И песнь его — прекрасна
* * *
Он сменит без людей, без книг,
Одной природе веря,
Свой человеческий язык
На междометья зверя.
Руками выроет ночлег
В хрустящих листьях шалых
Тот одичалый человек,
Интеллигент бывалый.
И выступающим ребром
Натягивая кожу,
Различья меж добром и злом
Определить не сможет.
Но вдруг, умывшись на заре
Водою ключевою,
Поднимет очи он горе
И точно волк завоет...
* * *
Говорят, мы мелко пашем,
Оступаясь и скользя.
На природной почве нашей
Глубже и пахать нельзя.
Мы ведь пашем на погосте,
Разрыхляем верхний слой.
Мы задеть боимся кости,
Чуть прикрытые землей.
|
| |
|
|