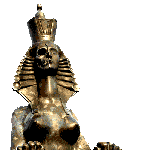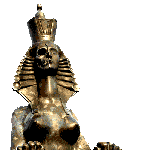|
Марина ЯРЦЕВА, Владимир СИЛЛОВ, Борис БРИК,
Георгий ДЕНИСОВ
|
МАРИНА ЯРЦЕВА
Из известных мне биографических данных Марии Пантелеевны Ярцевой (Хиловой) могу лишь сообщить, что она, девчонкой, с семьей попала в Казахстан, в Карагандинскую область (поселок № 9), как раскулаченная из Саратовской губернии. К сожалению, я не смогу сразу сейчас же разыскать ее адрес. Живет она в Темиртау (я видела ее не позднее 2000 года), если не уехала и если здорова.
Из письма Е. Б. Кузнецовой составителю антологии
* * *
Историю своей семьи описала я в стихах. Они примитивны и смешны, наверное, для профессионала. Но в них правда жизни. Судьба близких. Посвящены они моей маме.
Крепко сомкнула ты губы и плотно закрыла глаза,
Не тревожат теперь тебя думы, как многие годы назад.
Те трудные, страшные годы сумела ты как пережить?
Любые сносила невзгоды. Велела нам труд полюбить.
Работы любой не боялась: веревкой носила дерно.
В телегу, как вол, ты впрягалась и лямкой тянула ее.
Ногами ты глину месила, а глина — покрытая льдом,
И судорга ноги сводила, и сердце сжималося в ком.
Ты ямы лопатой копала — там овощи будут хранить,
Носилками землю таскала — кирпичики надо лепить.
Вязала снопы и мешки ты носила,
Под тяжестью ноши ты сгорбилась вся.
Но доброе сердце свое сохранила —
В наследство досталась твоя доброта.
Дорогу шоссейную строила: лопаты, носилки, кайло —
Таким инструментом работали мамы наши, сестренки —
Звено. Насыпь высокую делали,
Чтоб снег не держался на ней. Ночевали в степи и
Обедали, чтоб домой возвратиться скорей.
На поливе стояла ты сутками, чтоб капуста и свекла
Росли. Засыпала ты стоя, с лопаткою. И с поста тебе
Не уйти. Надсмотрщиков было немало,
И каждый по-своему зол. По силам работ не бывало.
Ругали вас все, кто как мог. За труд свой паек
Получала — там нечего даже делить...
И как только ты умудрялась досыта, но всех
Накормить!
Ты помнишь, как вашей подружке за хвостик
Морковки сухой Безбожник устроил смотрины-игрушку,
На шею повесив ей камень большой.
Подвел он к воде, и, чтоб всех устрашить,
В Ишиме хотел он ее утопить. Упала старушка
Пред ним на колени, успела промолвить: «Прости...»
И тут же лишилась рассудка навеки. Все молча молили:
«Грехи отпусти!»...
Сама свой паек не съедала, старалась на всех
Разделить. На корку ты меточку клала, чтоб можно до
Вечера жить. Как волчица, ты снег разгребала,
Вползала ты в свой балаган, меня и братишку толкала,
Чтоб узнать: не застыли ли там?
Своим нас теплом согревала, шептала из сказки слова,
Поверить нам в жизнь помогала, от голода еле жива...
Ты верила в нашу удачу, но всех нас спасти
Не смогла. Как вспомню, так сразу заплачу:
Трехжильная, что ли, была?
Но в этом вины твоей нет...
Суров был тогда приговор, в тифу, на земле, сверху —
Снег. Удивляюсь, что жива до сих пор.
Ты два раза зимой замерзала и чудом осталась жива.
Любой ценой добывала еду, чтоб сварить нам, дрова.
Сожгла ты дерюжку и сито, нам теплой водички дала,
А тело, лицо — все не мыто. Плевком протирали глаза...
Мы бредили словом «Россия». И снилась она каждый раз.
А ты говорила: «Мария, уедем отсюда сей час...»
Но строгий был очень Безбожник,
Он плеткой порол всех подряд, хоть старый, хоть
Малый работник — при нем не посмеет стоять.
Потом уж привыкли к неволе мы. И не стала Россия манить.
Нашу избу совсем уничтожили, и уж негде нам было бы
Жить. И мы потеряли своих незабвенных, в какой они
Яме лежат? Поднять бы теперь их, родимых...
Они к нам теперь не спешат.
Отец, я не помню тебя,
Мне мало годков тогда было, прости ты за это меня.
Я старше в два раза тебя — виски седина побелила.
А ты молодой навсегда. И мама такого любила.
На могилке твоей — не твоей? — я поплакать совсем
Не стыжусь. Ты в опалу попал в тридцать первом году,
А я тобой ведь горжусь.
И была вся вина твоя в том, что ты много и честно
Работал. И лихою бедой обернулась потом,
Стал за это врагом ты народа.
Ты железную строил дорогу, на тачке возил шлак, песок,
Жил в землянке в нечеловечьих условиях, больной и
Голодный...
С мамой вместе короткую жизнь вы прожили — так власть
Тогда распорядилась. Перечить разве мы могли?!
Не знали, что кругом творилось.
Увели со двора всю скотину. И метлой подмели закрома.
Мы не знаем, где дедушка сгинул, нам могилы его не
Найти никогда.
Отобрали пальто и машинку и холсты, что ткала,
Унесли. Даже куклы, что делала бабушка,
Парамониха взять не дала. Мамино наследство —
Полотенце, золотые руки выткали его,
Кружева связали, вышили узоры...
Как зеницу ока, берегу его.
А теперь некоторые пояснения к стихам.
Безбожник — это фамилия объездчика, я так раньше думала. Но позже выяснилось, что настоящая фамилия его была Суховеров, а сам себя он называл безбожником, вот кличка и прилепилась. Все раскулаченные-спецпереселенцы, кто жил в 11-м поселке в Осакаровском районе, помнят его по кличке.
Летом подергивали морковь, тоньше мизинца, в соломинку она еще была. Одна из женщин взяла в рот этот выдернутый стебелек вместе с ботвой — два-три листочка. Фамилия женщины Позднякова, имени не знаю. За это объездчик хотел ее утопить. Случай этот помнят все старожилы поселка. После издевательств объездчика женщина сошла с ума...
Мой отец и двухлетняя сестренка умерли еще в балагане. Братишка семи лет умер в январе — феврале 1934 года.
В то лето, как нас раскулачили и увезли, избу нашу сломали...
Умерших родственников не хоронили, а складывали (сбрасывали) всех подряд в ямы, до сотни и больше, место захоронения никак не отмечалось. Бугорок земли, и все. А кто под этим бугорком? Отцу было всего 31 или 32 года. Документов никаких о рождении и смерти нет...
Дедушку забрали зимой 1931 года. На другой день там, в районном центре, куда его увезли, стало ему плохо, он потерял речь, потом и сознание. Его вынесли из барака или сарая, где их оставляли на ночь, и... Он исчез бесследно.
В прошлом году я узнала, что Парамониха — она же Рудакова Анастасия Петровна, так звали активистку, которая принимала участие в раскулачивании и непосредственно руководила нашими сборами в дорогу. Сундук взять не разрешила, мама с сестрой вынесли его из горницы в прихожку, чтобы уложить в него то, что нам разрешат взять с собой. А мне нужны были куклы, я их собирала. Так Парамониха отобрала их у меня и закинула под сундук — он был на невысоких ножках. Рука моя под сундук не пролезла, и я взяла кочергу и кочергой попыталась достать кукол. Но кочерга на длинной деревянной ручке, мне с ней не развернуться в тесноте...
Полотенце уцелело каким-то чудом — не проели!
Больше семидесяти лет тому полотенцу. На нем вышиты девичьи инициалы М. Т. — Мария Таржанова.
Мария Пантелеевна Ярцева, город Темиртау
ВЛАДИМИР СИЛЛОВ
Литературная деятельность Владимира Александровича Силлова начиналась во Владивостоке. Вокруг журнала «Творчество» сложилась группа литераторов, образовавших последнее футуристическое объединение (1921 — 1922 годы). Силлов был его участником, а также редактировал журналы «Восток» (в 1920 году) и «Юнь» (в 1921 году). Затем он учился в Москве в Высшем литературно-художественном институте, был ответственным секретарем журнала «Рабочий клуб», печатался в «ЛЕФе» и пролеткультовских изданиях.
Репрессирован в 1930 году. Узнав об этом, Б.Пастернак писал Н.Чуковскому 1 марта 1930 года о своем потрясении и выделял Силлова «из Лефовских людей» как «укоряюще-благородный пример <...> нравственной новизны»*.
* Пастернак Б. Собр. соч.: В 5 т. М., 1992. Т. 5. С. 298.
Дальнейшая судьба Владимира Силлова неизвестна.
Н. Н. АСЕЕВУ
У нежности выросли крылья,
Клюв и когти орла.
Ушедшего от де-Лиля
Расстреливала молва.
Взорвавшемуся чуду —
Заката хрусталь и рубин.
Заката поля покаты
В устьях морозных седин.
Но нет седины той слаще,
Чем гривы морских волов.
У сердца заиненных в чаще
Шапки колоколов.
А если небесное сеево
Взбугрится, лик душ озаря,
Я знаю: там в замке Асеева
Колокола звенят.
1921
БОРИС БРИК
? - 1942
5 мая 1942 года в городе Мариинске близ Новосибирска был расстрелян по постановлению Особого совещания при НКВД СССР поэт-переводчик, член Союза советских писателей Борис Брик, книги которого попали в спецхраны, а имя мало кому известно.
В его архивном следственном деле за 1931 год, которое хранится в Управлении Федеральной архивной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, были обнаружены сборник стихов и рукопись сатирической комедии «Тринадцатый месяц».
Поскольку произведение писателя является вещественным доказательством, которое включено в следственное дело, — оно, несмотря на полную реабилитацию писателя, не может быть предано публикации по причинам чисто техническим.
По инициативе и при содействии сотрудника УФСБ Станислава Бернева мы имеем сегодня возможность открыть для читателя хотя бы фрагмент комедии. По сути своей она глубоко сатирична и предает осмеянию партийную бюрократию. Фантастическая идея придать годичному циклу, т. е. 1 2 месяцам, — еще один месяц, «тринадцатый», захватывает умы деятелей, которые считают, что эдакая «реформа» сразу двинет общество и государство вперед и будет спасением от всех и всяческих бед...
Характеристики сценических персонажей уже сами по себе остро и выразительно рисуют образы советской партийно-чиновной бюрократии. Справедливо будет сказать, что в них есть что-то «гоголевское»...
Захар Дичаров
ПОВОРОТ
Я звезд коммунизма не смог разглядеть
За тучами злой непогоды.
У века в руке различал я лишь плеть
И сердцем замкнулся на годы.
Я стал нелюдим, недоверчив, как волк,
Гоненье мне было в усладу.
В презренье и гордости видел я долг
И принял судьбу, как осаду.
Засел я с солдатами веры своей
Под своды угрюмые башен.
Мы жен погубили, мы съели коней,
И приступ сердцам был не страшен.
Но видим: никто не проходит к стене
И нет никому до нас дела,
И сделалось скучно и тягостно мне,
И желчью все сердце сгорело.
А век мой, как прежде, сверкал и гремел
В движенье и радостном дыме.
И зависть проснулась, и разум велел
Душе моей — быть с молодыми.
И поднял на шпаге я белый платок,
Сдаваясь грядущим столетьям,
И будет не злобен мой край иль жесток –
Судьбу мы, как должное, встретим.
Повинную голову меч не сечет,
И люди большого разгрома
Ко мне не предъявят минувшего счет,
Но скажут мне: — Будьте как дома! —
И знаю, что в емкой эпохе найдем
Мы место за творческим горном,
И тот, кто был самым упорным врагом,
Тот станет и другом упорным.
ФОМА
Извини меня, тень Ленина,
Что идет
Сторонкою мой путь,
Хоть не раз, волненьем вспенена,
На завод
Молилась тихо грудь.
Я привык грустить и мучиться
Потому,
Что вижу смерти танк.
И другой, и лучшей участи
Не пойму,
Быть может, никогда...
Знаю я, что победители
Всех времен
Ругались над рабом.
Другом я рожден
Учителю,
Но рожден
Ученикам — врагом.
Не отталкивай меня, пожалуйста,
Часто зло
Рождается добром.
Дай ладонь мне, что не зажила,
И копьем
Пробитое ребро.
За столетней далью серою
Хоть ни зги
Не различить уму —
Верую, Учитель, верую.
Помоги — неверью моему.
ГЕОРГИЙ ДЕНИСОВ
1893-1937
Мой отец, Георгий Николаевич Денисов, родился в семье сельского священника. Учился
в Коммерческом училище в Киеве. Во время Первой мировой войны был призван в армию, прошел сокращенный курс в Михайловском артиллерийском училище, потом закончил Тифлисскую офицерскую кавалерийскую школу. В Гражданскую войну был в казачьих войсках, в 1920-м перешел на сторону красных. Из Красной Армии уволен в 1922 году как бывший офицер и двоюродный брат белогвардейского генерала А.Г.Шкуро. Скрываясь от ареста, часто переезжал из города в город.
В 1931 году арестован в Москве, отправлен на «перековку» на Беломорско-Балтийский канал сроком на три года, на общие работы. С окончанием строительства канала лагерь был переведен в район Учинского гидроузла. Отец, актированный из-за полученной на строительстве травмы, был назначен начальником сметного отдела Восточного района Дмитровлага. В 1937 году был вновь арестован и расстрелян.
Всю жизнь отец писал стихи «в стол». Его сокровенной мечтой было издать их, мечтой, не сбывшейся при его жизни. Бумаги отца, в том числе и стихи, были изъяты при обыске — и сгинули в недрах НКВД.
Сохранилось всего тринадцать стихотворений, последнее датировано осенью 1936 года.
Георгий Денисов
ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ
Теперь он грабарь на канале.
Но вы напрасно бы искали
В морщинах этого лица
Приметы грозного бойца.
Лишь только в поступи сутулой,
В наклоне бычьем головы
Мне вдруг знакомое мелькнуло;
Хоть я давно уже отвык
Среди покорного безлюдья
Встречать немирные глаза,
Но я узнал тебя, казак,
В опорках грязных, с голой грудью..
Я: — Здоров, земляк! Какой станицы?
(Он недоверчиво глядел,
Подняв тяжелые ресницы
И кнут в своих руках вертел.)
Он: — Ты что?.. С Кубани али как?..
Я: — С Кубани, брат; как ты — в плену,
Садись — потянем тютюну,
Не хоронись меня, казак...
Он: — Ты чьих же будешь? На Кубани
Не всех теперь, поди, вспомянешь.
(Я объяснился. Он ожил, Цигарку взял. Заговорил.)
...Эт что за Старым капелюхом?
Лихие были казаки —
Нехай земля им будет пухом...
Теперь там скрозь большевики.
Когда станицу выселяли,
Старый Гулак на сходе том
Сказал: «...московским сапогом
Казачью волю потоптали,
Как в стародавние года
При Катерине — вражой бабе...»
Казачья простота — беда:
Кто захотел, тот и пограбил...
Ну, а беда была, как есть —
Всего тебе не перечесть.
Солдаты всех гуртом сгоняли,
А бабы плакали, рыдали,
Ревела всюду детвора;
На воз что попадя совали
И выезжали со двора,
А куды ехать — и не знали...
Горилку пили казаки
В останний раз на расставаньи,
И шли от горя больше пьяны —
Кругом солдаты и штыки...
1933
ИНТЕРМЕДИЯ
Потомок, дальний брат,
Еще ты скрыт от взора,
Но вижу через дни позора
Из тьмы взыскующий твой взгляд,
И час грядущего ответа,
И призрак беспощадной Леты,
Когда предстанет пред тобой
Моих стихов поспешный строй.
И лишь одно напоминанье:
В тот жданный час я бы хотел,
Чтоб ты спеша не проглядел
Перенесенные страданья
В неволе мрачных лагерей
Бессменной спутницы моей —
Голодной Музы — и в сужденье
Пролил бы каплю снисхожденья.
Ей выдался нелегкий путь:
Томима пыткою допроса,
Худа, грязна, простоволоса —
Она впивала злую жуть
Пропахших кровью казематов...
С душой, унынием объятой,
В стенах классической тюрьмы
Ее видали с Вами мы.
Потом, затиснута в вагоны,
Хрипя от жажды и тоски,
На вшивом краешке доски
Тряслась по долгим перегонам
На север, в тундры, в глушь и темь —
Куда? Печора, Котлас, Кемь?
Не все ль равно? Учась терпенью,
Прийти не трудно к отступленью.
И вот последняя верста.
Колючей сеткою опутан,
Туманом гибельным окутан,
Встает угрюмый серый стан.
Окружено бескрайней далью,
Штыков рачительною сталью,
Здесь все ярму обречено —
Здесь жизни «всесоюзной» дно...
В коротком вытертом бушлате
Рассветной серою порой
Покорно Муза встала в строй
В ряды покорные собратий.
По стройкам, рекам, по лесам
Ее я вижу тут и там...
Она то землю ковыряет,
То пилит, тешет, то строгает;
Вокруг коптящего горна
Дырявый сиплый мех вздувает,
Тяжелый молот подымает
И бьет, кует, стучит она...
Или в оборванной артели
Канатом тащит баржу с мели,
И, криком раздирая рот,
Все ту ж «дубинушку» орет...
А то на перекатном сплаве,
Покрыта тучей комаров,
Она орудует багром;
То в лодке утлой сети ставит,
Иль просто тачку с грузом прет
Горячий вытирая пот...
Корчует лес или с рудою
Вагоны гонит чередою...
Иль, наконец, согнув хребет,
С масштабом, циркулем, рейсшиной
Корпит над чертежом машины
Всю ночь, пока забрезжит свет...
И часто в пору белой ночи
И вовсе не смыкает очи —
Ну, словом, среди всяких дел
Обычный каторжный удел...
Один лишь чайничек — забава,
Его с любовью кипятит,
Частенько в карцере сидит
За подозрительностью нрава
(Как достиженье наших лет
В доносах недостатка нет).
Случится хворь — тогда в палатке
Она трясется в лихорадке...
Но все ничто — жива душа,
И Муза тайно в ночи бденья
Бегущей жизни сновиденья
Плетет куском карандаша,
Томясь тревогою немало:
Как золото иль сталь кинжала,
Ей запрещалося иметь
Стиха отточенную медь...
Цена подобному писанью
Немного — что таить греха?
Такого ль надобно стиха,
Чтобы почтить достойной данью?
Тут ямб хромает, там хорей...
(Теперь Демьян и тот хитрей.)
Глагольной рифмой пичкать кстати ль
Вас, избалованный читатель.
Июнь 1933
|
| |
|
|