ИСТОРИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ РОССИИ
ЦАРИЗМ И РЕВОЛЮЦИЯ
М.Н.Покровский
VI. Старая Россия и революция
Пока сила была в руках царизма, русская история не смогла даже произнести слово „революция". Для российской революции был установлен обязательный официальный маскарад: мы знали ее под именем „общественного движения". Это, впрочем, имело свою хорошую сторону — юношество привыкало думать, что у нас всякое общественное движение направлено к низвержению самодержавия.
В действительности, революция в России так же стара, как само российское государство. Первой же киевской династии, потомству Св. Владимиpa, и всего в третьем поколении, пришлось иметь с нею дело. В 1068 г. население „матери городовъ русскихъ", Киева, низвергло своего „законнаго" государя, князя Изяслава Ярославича, бездарнаго и жестокаго, и посадило на его место представителя совсем чужой, полоцкой династии. А менее 50 лет спустя, в 1113 г., Киев был театром новой революции, уже не только политической, но и социальной, говоря по теперешнему — возстания мелкой городской буржуазии и крестьянства, опутанных тенетами ростовщическаго капитализма. В то время, как самая ранняя революционная попытка — повод к которой так близок и понятен живущему поколению: она разыгралась на грозном фоне надвигавшагося половецкаго нашествия, с которым внуки Владимира не умели справиться — кончилась неудачно, вторая киевская революция оставила яркий след в русском праве, в виде так называемой „Мономаховой правды", изданной Владимиром Мономахом долгового устава, по крайней мере на бумаге значительно улучшавшего положение закабаленной массы. Не лишена интереса и третья революционная вспышка до-монгольской Руси, владимирское восстание 1175 года, — не лишена потому, что она связана с первым в русской истории „цареубийством": сигналом к восстанию было умерщвление Андрея Боголюбского его дружинниками. Горожане только и ждали этого сигнала, чтобы начать избивать княжескую администрацию, посадниковъ и тиунов — по нынешнему исправников и земских начальников — с их „детскими" и „мечниками" — урядниками и стражниками.
Мы напомнили об этих красных отблесках седой старины не потому, конечно, чтобы киевско-суздальские — или, еще более интересные, новгородские — городские революции имели какую-нибудь связь с современным нам революционным движением. Нам хотелось только рельефнее показать, что вопреки официальному лицемерию, прививавшемуся всем нам в школе, идея восстания против власти вовсе не есть заносная идея, навеянная нам тлетворным западом — что, напротив, эта идея как нельзя более „национальна". Нужен был двухвековой гнет татарщины, чтобы русский человек присмирел — но опять-таки не до такой степени, как это обычно ceбе представляют.
Уже середина 16-го века — конец юности Грозного — отмечена московским восстанием большого размаха, снова не оставшимся, по всей вероятности, без влияния на законодательство ближайших лет (так называемая „земская реформа Грозного"). Когда Иван Васильевич, пятнадцать лет спустя, позвал московский посад на помощь против боярства, это отнюдь не было только театральным эффектом: это было обращение к реальной силе, которая могла стать за опричнину, могла стать и против нее. Пятьдесят лет спустя „предвестники" разрослись в гигантскую бурю Смутного времени. Это была не только уже настоящая революция, это была, в известном смысле, великая революция — русская параллель „великой крестьянской войны" въ Германии в начале 16-го века. Но, как и все ея предшественницы, наша Смута была направлена не против политического принципа, а против социального факта. И этот социальный факт — крепостное право — она надеялась устранить именно при помощи старого политического принципа: возведенного в идеалъ царизма.
Полтора столетия спустя наша крестьянская идеология не ушла ни на пядь дальше: новое восстание против обострившейся, интенсифицированной крепостной неволи пошло опять под знаменем „государя Петра Федоровича". Тут приходится только снова подчеркнуть лицемерие официальной традиции, ни на минуту не соглашавшейся допустить, чтобы „беглый козакъ Емельянъ Пугачевъ" мог быть серьезным соперником Екатерины „Великой". Эта последняя и ея приближенные были в данном вопросе большими реалистами. Когда в Петербурге возникла было мысль — разстричь всех священников, приставших к пугачевскому движению, главный усмиритель пугачевщины, П. И. Панин, писал Екатерине: „На сей чинъ смею я вашему императорскому величеству представить: в техъ здесь местахъ, где злодей самъ проходилъ, и въ которыя входили большiе его отряды, не было изъ духовенства почти ни одного человека, изъ неслучившихся быть тогда въ отлучке, который бы не встречалъ злодея съ крестами, и не делалъ бы служенiя съ произношенiемъ самозванца". Екатерина согласилась съ доводами Панина - не разстригать же было духовенство нескольких губерний...
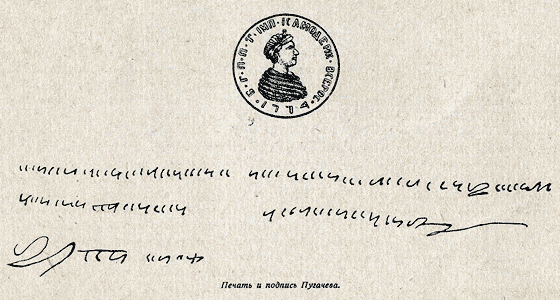 Печать и подпись Пугачева. Печать и подпись Пугачева.
VII. Крепостническая реакция и дворянская революция; „дворянская буржуазия" в политике.
Пугачевщина, сама по себе, ничего не внесла в развитие революционной идеи въ России — но ее отраженнымъ действием объясняется первое обострение оппозиционных настроений в верхних слоях русскаго общества. Неудавшаяся крестьянская революция дала первый толчок, пробудившей революцию дворянскую.
В первую половину екатерининскаго царствования дворянин был либералом — но революционности в нем не было еще и следа. Чувствуя себя хозяином положения, заняв российский трон человеком по своему выбору что мог он иметь принципиально против этого трона? Беглый донской козак показал ему опасность с той стороны, откуда дворянин уже отвык ее видеть. Достраивание дворянской монархии по планам Монтескье пришлось бросить — наскоро сменив систему дворянских привилегий голой полицейской диктатурой, внедрявшей „порядокъ" ценой всеобщего порабощения — всеобщего, не исключая и самого помещика. Хозяйничанье екатерининских фаворитов, начиная с Потемкина, и продолжая Зубовым, отражало именно этот социальный факт: дальнейшим его отражением был Павел Петрович — его не могла перенести уже и дворянская масса. Но индивидуальные протесты против системы, покупавшей беспрепятственное продолжение барщиннаго хозяйства ценой закрепощения административному произволу самого барина, начались гораздо раньше, чем гвардейское офицерство явилось „скопом" в спальню Павла I. В предсмертном стоне Щербатова мы слышим голосъ старого екатерининского „монаршизма", пережившего в юности иллюзии „комиссии" 1767 года. „Я охуляю самый составъ нашего правительства, называя его совершенно самовластнымъ и такимъ, хотя есть писанные законы, но они власти государевой и силе вельможъ уступають, состоянiе каждаго подданнаго основывается не на защищенiи законовъ, не отъ собственнаго его поведенiя зависеть, но отъ мановенiя злостнаго вельможи... Надлежало бы мне теперь говорить о правительствахъ: но какъ у насъ по самому непомерному деспотичеству не законы действуютъ въ правительствахъ, но преклонение двора и воля вельможъ, то прежде и должно о сихъ говорить"...
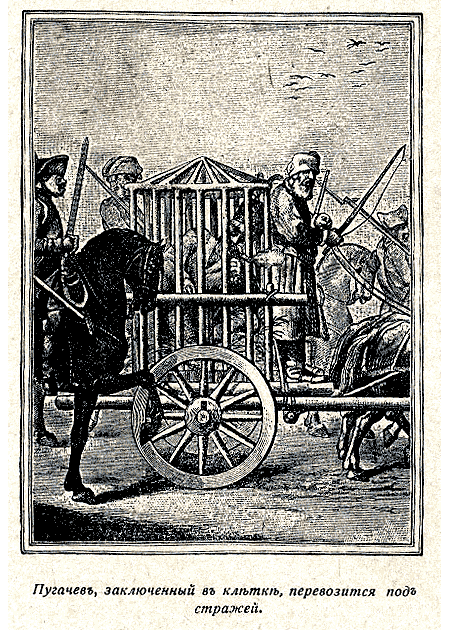
Если у старого монархиста хватало силы только для „охуленiя" всего того, что поставило крест над идеалами его молодости, следующее поколение сумело сделать из наблюдений над „непомерным деспотичеством" болee радикальные выводы.
„Вольность" показалась даром особенно „безценнымъ" русскому образованному дворянину, когда он на себе испытал все прелести „рабства", и из под пера Радищева выходит грандиозная картина республиканской революции, которая „на плаху возвела царя". Екатерине II было от чего возмутиться, читая оду „Вольность" — так не похожую на оды, к которым ее приучил Державин. То, о чем писал Радищев, и в революционной Франции стало мыслимо только через три года: ранний русский республиканизм отнюдь не был, копией французского якобинства.

Но тем более зловещим предзнаменованием был он для самодержавия — прошло одиннадцать лет, и царь, думавший идти дальше по проторенной колее, погиб, правда, не на плахе, а в петле, сделанной из офицерскаго шарфа, не публично, а „при закрытыхъ дверяхъ". Но было ли от этого легче?
Царей убивали и раньше — но предлогом всегда было то, что они являлись недостоиным воплощениемъ монархического начала: Названый Димитрий был еретик, Петр III сам отказался от короны раньше, чем умереть „отъ коликъ". В лице Павла впервые убили „деспота": „ненависть къ тирану должна брать верхъ надъ всеми чувствами и всякое средство хорошо, чтобы сломить этотъ бичъ", записал один современник трагедии 11 марта 1801 г., вспоминая ее через тридцать лет. И впервые по поводу дворцового переворота было произнесено в России слово „революция" — произнесено не кем другим, как самой русской императрицей, женой Александра I. А. Подъ царизмомъ что-то треснуло.,.
Пока, это были только настроения, родственные, если хотите, настроениям крепостной дворни, убившей жестокого барина. Если бы среди этой дворни нашлись люди европейского образования, быть может, они даже говорили бы тем же языком. Возможность таких настроений была моральным осуждением системы: но, какъ объективный факт, система могла прожить еще неопределенно долгое время. Если что позволяло считать ее дни — хотя длинен был счет! — то это, нечувствительные для современных наблюдателей, не исключая и самих русских республиканцев, изменения в том экономическом базисе, на котором стоял царизмъ. Эти изменения вышли наружу — но и то в виде мало заметных ростков - только четверть столетия позже 11 марта.
Давно установлено, что идеология декабристов была буржуазной идеологией — новостью были, скорее, те дворянские черты, которые оказались в эту идеологию вкрапленными. Еще новее были те указания на непосредственное участие самой буржуазии в движении, приведшем к 14 декабря, как, по крохам, все-таки можно было собрать в источниках. Близкие связи Рылеева с Российско-Американской компанией, русской пародией на знаменитую Ост-Индскую компанию, так же, как и собственное издательское предпринимательство Рылеева, давно всем известны. Ближе еще к купечеству стояли Батеньков и Штейнгель: первый удивлял своих товарищей желанием стать петербургским „лордом-майором", второй по прямому поручению московских фабрикантов составлял докладные записки для Аракчеева. Характерно, что даже у членов тайных обществ гораздо теснее связанных с дворянством, чем с „купечеством", прорываются те же нотки. А. Бестужев, мечтавший о том, что он не хуже Орловых, возведших на престол Екатерину — и что отчего бы и ему не попасть в „правительную аристократию", писал из крепости Николаю: „шаткость тарифа привела в нищету многих фабрикантов, испугала других и вывела правительство наше из веры равно у своих, как и у чужих негоциантов". А, казалось бы, дворяне всю русскую историю только и заботились о том, чтобы тариф был пониже! И эта „шаткость тарифа" является лучшим комментарием к тем толкам купцов петербургского гостинного двора о конституции, которые доводились до сведения еще Александра Павловича, в 1821 году. „На что нуженъ государь, который совершенно не любитъ своего народа, который только путешествуетъ и на это тратитъ огромныя суммы?" дерзали, будто бы, спрашивать эти купцы. Отсюда был один шаг до вопроса: а на что нужен государь вообще?

Пять казненныхъ декабристовъ.
Съ перваго листа изданiя Герцена "Полярная Звезда" 1861 г.
VIII.
Торговый капитал и крупная промышленность.
Слова питерских гостиннодворцев кажутся вопиющей несправедливостью — царизм, мы видели, только и делал, что обслуживал интересы купечества. Но, очевидно, теперь он служил им плохо. Правда, после тильзитского унижения, у царизма была минута слабости: он предал русский торговый капитализм континентальной блокаде. Но скоро он стряхнул с себя очарование: в середине 1807 года былъ заключенъ тильзитский трактат, а в конце 1810 г. Александр был уже готов воевать со своим тильзитским другом; в 1811 он уже снова, вполне определенно, союзник Англии. А еще два года спустя, континентальная блокада лежала во пpaxе, вместе с ее автором.
Казалось бы, царизм „исправился" достаточно радикально. И вот, вы с удивлением видите, что „купечество" не чувствовало ни малейшей благодарности к Александру за все, им сделанное на пользу „свободы торговли". Наоборот: с теплым чувством вспоминают — континентальную блокаду. „Не только многiе богатые коммерсанты и дворяне, но изъ разнаго состоянiя люди приступили къ устройству фабрикъ и заводовъ разнаго рода, не щадя капиталовъ и даже входя въ долги", рассказывали о золотом веке российской промышленности фабриканты под диктовку которых писал Штейнгель. „Все оживилось внутри государства и везде водворилась особенная деятельность... Звонкая монета явилась повсюду въ обороте, земледельцы даже нуждались въ ассигнацiях, в московскихъ же рядахъ видны были груды золота, фабрики суконныя до того возвысились, что китайцы не отказывались брать русское сукно, и кяхтинскiе торговцы могли обходиться безъ выписки иностранныхъ суконъ. Ситцы и нанка стали не уступать отделкою уже англiйскимъ; сахаръ, фарфоръ, бронза, бумага, сургучъ доведены едва ли не до совершенства. Шляпы давно уже стали требовать даже заграницу. При такомъ усовершенствованiи русскихъ фабрикъ, въ Англiи едва ли не доходили до возмущенiя отъ того, что рабочему народу нечего было делать".
И конец этой счастливой эры положили — вы думаете, 1812 год и разорение Москвы? Нет, тарифъ 1819 года, основанный на началах свободной торговли. „Россiйское купечество съ сокрушенiемъ прочло въ одномъ изъ отечественныхъ журналовъ, что въ Лондоне по сему случаю даны были многiя празднества". Александръ Павловичъ поспешил и тут исправиться — в 1823 году он снова ввел свирепо-запретительный тариф, объяснив своему другу, прусскому королю (прусская промышленность была больно затронута новым тарифом), что свобода торговли угрожала самому существованию российского государства. Николай Павлович всю жизнь остался верен „покровительственной" системе. Но протекционизмом отнюдь не исчерпывались все логические последствия превращения российского капитализма из торгового в промышленный. Торговый капитализм предполагал, как свой необходимый объект, работника несвободного, но владеющего средствами производства — промышленному был нужен свободный пролетарий. Для торгового капитала внутренийй рынок был мало интересен — его дело взять со страны столько сырья, сколько можно, взять как можно дешевле, и продать это сырье там, где за него платят дорого. Для только что народившейся русской промышленности, как она ни хвасталась, что ее произведения „давно уже стали требовать даже заграницу", в первой линии необходим был внутренний рынок, достаточно емкий, чтобы накопление шло с быстротой, способной привлекать капиталы в промышленность: если бы предпринимательская прибыль купца была выше прибыли фабриканта, кому пришла бы охота „устраивать фабрики и заводы, не щадя капиталовъ?" Протекционизм помогал тут отчасти, отстраняя заграничнаго конкурента — но прежде всего нужно было иметь, из-за чего конкурировать, нужен был покупатель. И эти чисто экономически последствия превращения с первых же шагов осложнялись политическими. Свободный работник был очевидною нелепостью в крепостной стране. Торговый капитал, сам первый хищник, был равнодушен к хищническому хозяйству бюрократии — ему было все равно, беднеет или богатеет население, интересное для него лишь, как поставщик сырья; напротив, чем сильнее жмут это население, тем больше сырья оно должно будетъ выбросить на рынок. Но что было делать фабриканту с населением, ободранным до костей чиновниками? Злоупотребления бюрократии, на которые с философским равнодушием смотрел „купец", стали очень тревожить промышленного капиталиста. А от критики злоупотреблений режима нетрудно было подняться и до критики его самого — и мы уже видели образчики такой критики. „Все знаютъ, что уже давно въ судахъ совершаются вопiющiя несправедливости, дела выигрываютъ те, кто больше заплатить, а государь не обращаетъ на это вниманiя", — толковали петербургские гостиннодворцы въ 1821 году. „Нужно, чтобы онъ лучше оплачивалъ трудъ состоящихъ на государственной службе и поменее разъезжалъ. Только конституцiя можетъ исправить все это"...
IX. Промышленный капитализм и крепостное хозяйство.
Экономически переворот подкапывал самый фундамент романовской империи — „механическiя ткацкiя заведенiя", какъ тогда называли текстильныя фабрики, несли съ собою гибель не только несчастному крепостному кустарю-ткачу, но и той царской власти, в которой этот ткач продолжал еще видеть олицетворенiе „ правды божьей". Но как ткач погиб далеко не сразу, и в остатках своих дожил до нашихъ дней, так медленно рушилось и самодержавiе — настолько медленно, что у очень просвещенных и умных наблюдателей, вроде Герцена, могло получаться впечатленiе, будто царизм, ежели только захочет, может даже выиграть от переворота. „Одна робость, неловкость, оторопелость правительства мешають ему видеть дорогу и оно пропускаетъ удивительное время", писалъ Герцен после вступленiя на престол Александра II. „Господи! чего нельзя сделать этой весенней оттепелью после николаевской зимы; какъ можно воспользоваться темъ, что кровь въ жилахъ снова оттаяла, и сжатое сердце стукнуло вольнее!" „Только идучи впередъ къ целямъ действительнымъ, только способствуя больше и больше развитiю народныхъ силъ при общечеловеческомъ образованiи, и можетъ держаться императорство."
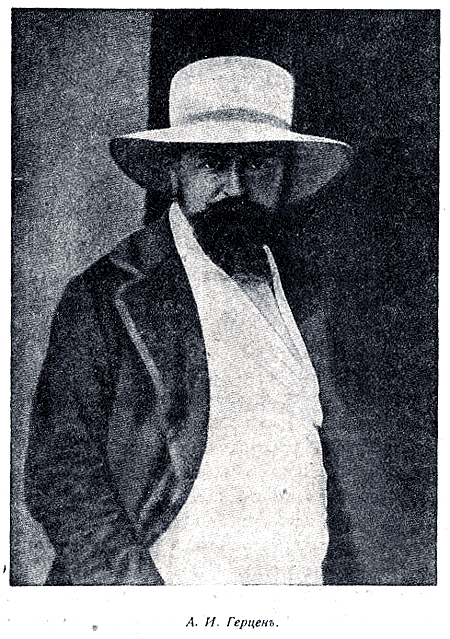
А после 19 февраля иллюзия стала так заразительна, что ей, на секунду, поддался даже Бакунин. „Редко царскому дому выпадала на долю такая величавая, такая благородная роль", писал он в 1862 году. „ Александръ II могъ бы такъ легко сделаться народнымъ кумиромъ, первымъ русскимъ царемъ, могучимъ не страхомъ и не гнуснымъ насилiемъ, но любовью, свободой, благоденствiемъ своего народа. Опираясь на этотъ народъ, онъ могъ бы стать спасителемъ и главою всего славянскаго мiра... Онъ можетъ еще и теперь..." Если Бакунин в этом все же сомневается, то лишь потому, что он „отчаялся" в способности Александра Николаевича к такому шагу: что царизм не может пойти этим путем, каковы бы ни были способности его наличного представителя, этого и Бакунину, в тот момент, не пришло въ голову.
То, что Герцену и Бакунину казалось делом личной способности, в действительности было вопросом экономической логики — и деловые люди весьма просто и легко делали необходимый логически вывод, отправляясь не от теории, она им была чужда, а от своихъ непосредственных, житейских наблюдений. Эти житейские наблюдения показали им прежде всего, что промышленный капитализм совершенно несовместим с крепостным работником. „Какъ духомъ времени изменилось фабричное производство, введенъ на оныхъ (фабрикахъ) механизмъ, заменяющей ручныя работы", писали министру финансовъ купцы Хлебниковы въ 1846 г. „То и производство на фабрикахъ работъ посессионными людьми (т.-е. крепостными, приписанными къ фабрике, работниками) не только неудобно, но и наноситъ постоянно важные убытки, да и самые при нихъ поссессiонные люди сделались уже излишними и обременительными для владельца". Но если крепостной работник и машина друг с другом не совмещались, если нужен был вольнонаемный работник, то сейчас же являлся вопрос, откуда же его достать в сплошь крепостной стране? На это ответилъ лучше всего тот из деятелей крестьянской реформы, в ком буржуазный ее аспект отразился с особенной яркостью. .Богатые никогда, я полагаю, не бываютъ обременеiнемъ обществу, оно черезъ них получаетъ внешнюю силу" возражал кн. Черкасский членам редакционных комиссий, опасавшимся возникновения у нас сельской буржуазии.

„Богатаго, если вы сошлете въ Ботани-Бей, онъ все таки будетъ заправлять вами. Ротшильдъ — все Ротшильдъ, где бы онъ ни былъ. Надо поощрять образованiе капитала. Онъ двигатель всего, онъ рычагъ всякой производительности". За три года перед этим, он и формулировал лучше всего значение освобождения крестьян, (тогда, в 1856 г., только проектировавшегося) для русской промышленности: „Безъ значительной массы зрелаго, деятельнаго, свободнаго населенiя, способнаго передвигаться туда, куда зоветъ его голосъ развивающейся промышленности, мануфактурной и земледельческой, не будетъ никогда въ Россiи фабрикъ, способныхъ состязаться съ Европой и удовлетворять отечественнымъ нуждамъ въ случае разрыва съ Западомъ... Въ настоящее время вольный
трудъ въ Россiи вместе и дорогъ до крайности, и крайне скуденъ по количественности предложенiя своего. Последнее ясно доказывается теми невероятными усилiями, которыхъ стоитъ привлечете къ себе рабочихъ рукъ каждому, вновь учреждаемому на коммерческой ноге производству фабричному и сельскохозяйственному, и который вполне оценить способенъ лишь человекъ, самъ испытавппй и прошедшiй черезъ этоть мучительный опытъ. Дороговизна же труда... кроме другихъ доводовъ, можетъ быть ясно доказана и темъ замечательнымъ явленiемъ, исключительно принадлежащимъ Россiи и нигде въ иныхъ земляхъ не повторяющимся, что у насъ несколько сословий, лишенныхъ всякой собственности, живя единственно трудомъ голыхъ рукъ своихъ, въ состоянiи этимъ путемъ не только прокормить себя, но еще сверхъ того уплачивать съ труда своего огромный прямой налогъ, какого нигде не видано. Мы говоримъ о дворовыхъ людяхъ, по паспортамъ живущихъ, о мещанахъ и цеховыхъ. Слишкомъ известны огромные оброки, платимые первыми господамъ своимъ"... Буржуазное хозяйство оказывалось прямым данником крепостного: где капитализмъ мог бы это стерпеть?
Для того, чтобы развязать этот узел, революции не понадобилось: мы нарочно пропустили те строки, где Черкасский доказывает несовместимость и сельскохозяйственного капитализма с крепостным правом. В его ликвидации были одинаково заинтересованы и прогрессивное дворянство, и вновь народившаяся промышленная буржуазия. Соглашение было возможно — и оно состоялось: развитие России пошло по прусскому типу, сотрудничества юнкера и фабриканта, а не по французскому, где буржуа уничтожил дворянина. И это потому, что наш дворянин, как и прусский, был, или стремился быть, хозяином — он не был, как французский землевладелец передъ 1789 годом, только получателем ренты.
Революционность poccийской буржуазии была этим сразу притуплена — в дворянском правительстве она видела не врага, но союзника: союзник этот в известный момент мог оказаться ненужным и даже компрометирующим, ему тогда можно было изменить, — но этого было долго ждать, момент наступил лишь в 1917 году, и во всяком случае, с союзником не борются, даже если его и подумывают бросить.
Положение было так выпукло охарактеризовано еще в 1870-х годах, Михайловским, что его слова всегда придется напомнить тем, кто в царизме конца 19-го века не захотели бы видеть ничего другого, кроме простого продолжения патриархальной деспотии. „Вы боитесь конституцiоннаго режима въ будущемъ, потому что онъ принесеть съ собою ненавистное иго буржуазiи", говорил народовольцам автор „Политическихъ писемъ соцiалиста": „оглянитесь: это иго уже лежитъ надъ Poccieй въ царствованiе благочестивейшаго, самодержавнейшаго императора божiей милостью... Россiя только покрыта горностаевой царской порфирой, подъ которою происходитъ кипучая работа набиванiя бездонныхъ приватныхъ кармановъ жадными приватными руками. Сорвите эту, когда то пышную, а теперь изъеденную молью, порфиру и вы найдете вполне готовую, деятельную буржуазiю. Она не отлилась въ самостоятельныя политическiя формы, она прячется въ складкахъ царской порфиры, но только потому, что ей такъ удобнее исполнять свою историческую миссiю расхищенiя народнаго достоянiя и присвоенiя народнаго труда".
ПРОДОЛЖЕНИЕ: Буржуазия, революция и пролетариат. Революция и разночинная интеллигенция. Царизм и пролетариат.
|